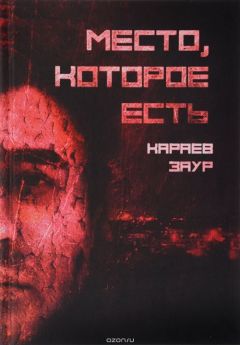Феликс Кандель - Шёл старый еврей по Новому Арбату...
Вырос мальчик в московской семье.
Надумал посетить синагогу.
Ходил вверх-вниз по переулку, поглядывал искоса на лестницу, что вела в здание, ступить на нее не решался.
В другой раз то же самое.
В третий.
Но однажды, на подходе к синагоге, углядел на тротуаре шапку, будто для него приготовленную. Надел на непокрытую голову и вошел внутрь…
Он не был еще раввином, когда мы встретились в Израиле, но он им стал.
Меня обучал премудростям.
Пришел к нему и сказал:
– Сегодня у меня на бумаге родился человек. Его не было вчера, не было никогда, но вот он есть со своим характером и судьбой, как открылось убежище, за которым этот человек ожидал своего часа.
Какая муза подсказала – распахнуть дверь в то убежище? Какая нашептала фамилию затворника, его воинское звание?..
Он внимательно слушал, тот, который не был еще раввином, а я сообщал подробности, изложенные на бумаге.
Фамилия у человека оказалась замечательная.
Потряскин.
Воинское звание – соответственное.
Лейтенант Потряскин, который учился в бронетанковой академии и квартировал за занавеской у волоокой безобразницы Груни, нимфы местного значения.
На своих харчах да на ее покладистости.
По вечерам дом подрагивал от танковых усилий, и дальнобойный Потряскин ревел на всю округу:
– Груня! Не сбивай мне наводку, Груня! Броня крепка и танки наши быстры, Груня! И наши люди мужеством полны!..
Его убили в сорок втором году, и строчки проявились на бумаге, соответствуя этой потере:
все войны делятся на справедливые и несправедливые;
справедливые – когда ты убиваешь,
несправедливые – когда тебя.
Для Потряскина это была справедливая война, на которой его несправедливо убили.
– Ништо, – сказал. – Я им просто так не поддамся. Я их с собой прихвачу, на тот свет, этих сраных Гудерианов!
И полез на прощание из галифе.
Пять минут с Груней, как пять жадных затяжек.
Так жил и так умирал бронебойный лейтенант Потряскин, которого не сломить никому…
Он с интересом посмотрел на меня, тот, который не был еще раввином, а я продолжил:
– Не создан ли он, лейтенант Потряскин, в один из дней нескончаемого творения, и ожидал моего появления, чтобы шагнуть через порог? Нет ли вокруг нас потайных дверей на подходе к удивительному, которые отомкнутся со временем? С иными ощущениями, иными ароматами? Не в каждом ли из нас эти двери, за которыми томятся неопробованные чувства?
Тот, который не был еще раввином, задумался:
– Я должен посоветоваться. Приходите завтра.
Назавтра он сказал:
– Всё зависит от того, ради чего открывают ту или иную дверь. Ради чего выпускают Потряскина в мир – на добро или на зло.
– Кому это определять?
– Вам, – ответил он. – Только вам.
А бронебойный Потряскин добавил бы из глубин ощущений:
– В какой фонтан бросить монетку, чтобы вернуться к тебе, Груня?..
Князь Белосельский, современник Екатерины Великой…
…декламировал на журфиксах стихи на смерть своего камердинера:
Под камнем сим лежит признательный Василий:
Мир и покой ему от всех земных насилий…
И что есть человек? – Горсть пыли и водицы.
– Водица… – повторял с умилением князь. – Не правда ли, так, кажется, и видишь, как протекают наши дни?..
Нет ничего сомнительнее, чем произносить вслух, на людях, сотворенное в одиночестве. Выдержавший испытание – поэт, не выдержавший – прозаик, даже если сочиняет в рифму.
"Большой урожай поэтов в этом году…", отметили в древнем Риме, чему воспротивился возмущенный Гораций: "Я читаю свои стихи не всякому… не везде и не при всех. А многие готовы читать свои сочинения на городской площади, даже в бане".
Оливер Голдсмит, англичанин, добавил в восемнадцатом веке: "Если какой-нибудь стихотворец… вознамерится развлекать общество чтением трудов своих… он должен сделать взнос в размере шести пенсов и далее платить по шиллингу в час до конца чтения. Указанные деньги делятся поровну между присутствующими для возмещения причиненного им беспокойства".
В письмах Ильи Рубина обнаружил старую притчу.
Однажды к Александру Македонскому привели человека невероятных способностей. Он брал просяное зернышко и так метко его бросал, что оно пролетало через игольное ушко.
Человек продемонстрировал свое умение перед Александром и застыл в ожидании.
– Почему он не уходит? – спросил царь.
Ему ответили:
– Он ждет награды.
И Александр сказал:
– Дайте ему горсть проса, чтобы мог и дальше упражняться в своем великом искусстве.
Не про тех ли она, эта притча?
Кто раскидывает по листу зернышки слов в ожидании награды?..
Нашел у брата разрозненные остатки архивного, должно быть, журнала, а в них – "Из старой записной книжки, начатой в 1813 году".
Вот что там высмотрел:
"Прослушав какое-то музыкальное произведение, чуть ли не Вагнера, Россини сказал: "Если бы это была музыка, то было бы очень плохо". И о многих письменных произведениях нашего времени можно сказать: будь это литература, то оно никуда не годится; но как оно не литература, то, может быть, оно в своем роде и недурно…
Люди пишут, следовательно, их читают; а если читают, то хорошо делают, что пишут. Каков товар, таков и спрос; а каков спрос, таков и товар… Всем есть место под Божиим солнцем".
Еще одно.
Непременно.
1859 год. Русский сатирический журнал "Искра". Разговор с читателем, "одержимым духом стихобесия":
– У меня-с такое обыкновение…
– Как обыкновение? Какое обыкновение?
– В стихахъ-с. Я всегда пишу письма стихами-с.
– Как стихами? Все письма стихами?
– Все до одного-с. Я и маменьке в деревню стихами пишу-с. Каждую неделю всё описываю-с.
– Но вам это должно быть очень трудно?
– Ничуть-с. Прозою труднее-с. Я вам скажу откровенно: я прозою никогда не пишу-с, даже не умею писать…
Дом на Никитском бульваре, возле Арбата…
…лучшего не сыскать.
Жила в нашей квартире некая француженка без мужа и детей, жила, думается, неплохо во многих апартаментах; после революции заселили туда семь семей – на один коридор и один туалет.
Прошло восемьдесят лет. Опять там живет одинокая, вроде бы, женщина, скупив нашу квартиру с коридором и туалетом.
Стоило ли городить революцию?..
Я вырос в семье, где было много смеха.
Даже в скудные, пугающие годы.
Отцу нравилось, когда гости смеялись, – не шаловливая ли муза прижилась у нас за столом, под шелковым абажуром, распивая чаи вместе со всеми?
Муза-острослов, муза-балагур или муза-хохотун?
Может, перелетела от одного из прежних смехотворцев?
От Гершеле Острополера или Шайке Дубеца, от Мотке Хабада или Шайке-свистуна?
Пересмешники – это святое.
Без них не выжить.
Недаром утверждали законоучители:
– И у этих есть доля в грядущем мире!..
В школе я веселил учеников, учителей, себя.
Делал это постоянно и непрерывно, пока самому не становилось противно и хотелось помолчать. Приходил домой и затихал, и считался в квартире серьезным мальчиком. На самом деле я не был серьезным, а просто отдыхал и набирался сил к следующему дню – подшучивать над другими и над самим собой.
– Ты самый глупый ученик в школе! – кричала на перемене учительница немецкого языка. – Из самых самый!..
Не знаю, чем ей досадил, ведь я учил английский и на уроках ее не присутствовал. Но "самый из самых" – стоило многого.
Перед выпускными экзаменами собрались родители, и учителя советовали, какую профессию выбрать их сыновьям. Математик Пипин Короткий сказал про меня:
– Этому всё равно.
Как в воду глядел…
Окончил школу и авиационный институт, работал в конструкторском бюро, запускал на полигоне ракеты, взрослел, – повзрослела и моя шаловливая муза, развлекать других стало профессией, за которую отдуваюсь по сей день.
Восемьдесят лет пребывания на земле, а умнее не станешь, выдумщик.
Не допустят.
Улыбаются при встрече, детям на меня указывают, пальцем тычут:
– Этот дядя выдумывал смешные истории. Про волка с зайчиком. Будешь хорошо себя вести, дядя еще сочинит.
Я их не поправляю, – чтоб они были здоровы, поганцы!
Не перечисляю прозу, которую написал, книги по истории – тысячи страниц; мог бы, конечно, перечислить, но изменить что-либо – бесполезно.
"Поздно стучать по столу, когда ты уже блюдо".
Говорю ребенку с вымученной симпатией:
– Хочешь потрогать дядю? Он не волк. И он не кусается.
Казалось, живи напоследок и радуйся, но постарела моя муза, крылья поистрепав, посуровела – не расшевелить, лишь вспархивает порой, припоминая былое, оставляет на страницах следы невеселого юмора.