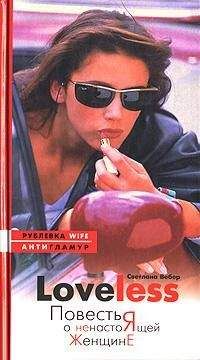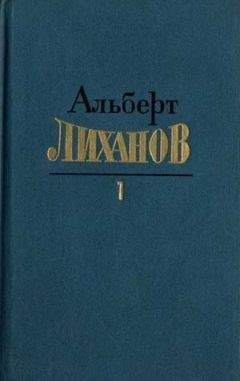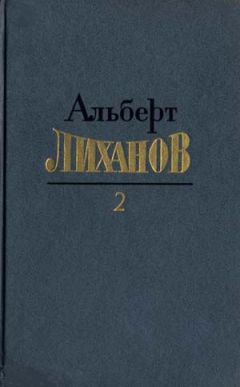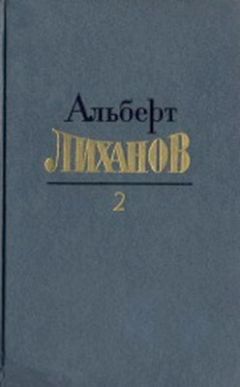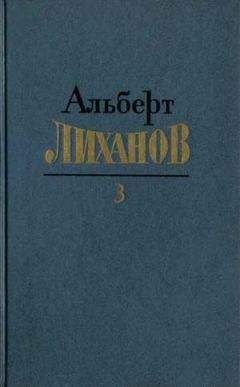Альберт Лиханов - Собрание сочинений в четырёх томах. Том 4.
— Тебе отдыхать надо, а не работать! Можно подумать — кладовщика некем заменить! — возмутился он.
— Ах, товарищ замглавного! — улыбнулся дед. — Не очень-то знаешь мелкие проблемы! Высоко паришь! Кладовщиков действительно не хватает, потому что молодежь сюда не идет, неинтересно, а стариков нету. Не закрывать же склад!
Отец хмурился, мама сердилась, но оба молчали.
— Дедушка, — привел я последний аргумент, — но ты же генерал, стыдно! Ты же нас подводишь! Подумал?
Дед стал серьезным.
— Вот это — разговор! — сказал он медленно и вдруг рассердился: — Если вам стыдно, можете рядом не ходить!
Мама и папа сразу от наступления к обороне перешли, принялись что-то говорить, успокаивать деда, а он удивился:
— Да что вы за чистоплюи! Нет стыдной работы, разве не знаете?
Я ушел со склада, будто оплеванный. Мама и отец уехали на работу, а я пошел в школу.
На дороге никого не было, и я опять разревелся. Выходит, я чистоплюй, стыжусь деда и все такое… Я ревел, не мог успокоиться, и не обида, а правда душила меня: ведь все так и есть…
СБОР
Я словно барахтался в каком-то болоте: хотел выбраться из него, да ноги проваливались, скользили, дно уходило из-под ног, и я уже отчаялся, потерял веру, опустил руки… Меня тянуло вниз, и не было, не было никакого спасения…
Но жизнь полна противоречий. Так сказал отец. Он сказал это давно, и я, кажется, забыл эти слова, но вот мне стало совсем худо, и странные слова выплыли из памяти. Выплыли, и я даже вздрогнул от неожиданности.
Я запутался вконец, что там и говорить, мне было плохо и тошно от скользкой, противной лжи, в которой я барахтался, но вот мне стало еще хуже — а я словно прозрел и как бы сразу поправился после тяжелой болезни. Действительно, жизнь полна противоречий…
Весь день дедушкины слова жгли меня, будто раскаленное клеймо. Он говорил на складе во множественном числе: вы, вам. Но мне было ясно — говорил он это только мне. Значит, я стыжусь дедушки. Стыжусь того, что он кладовщик. Стыжусь его вида — в телогрейке, треухе, валенках, а не в генеральской шинели с золотым шитьем. Я потерял совесть, проще говоря. Мне, оказывается, важен не дедушка, не человек, не его жизнь и характер, а его оболочка, вот. Блестящая оболочка с генеральскими погонами. Докатился, нечего сказать. А начал с того, что воспользовался его славой. Захотел быть командиром, как он. Подумал, что генеральское сияние и надо мной светится.
Жгла меня моя жизнь. И эти последние дедушкины слова как клеймо. Чистоплюй. Мягко еще сказано.
На какой-то переменке, не помню, все переменки и все уроки спутались у меня, Газовый Баллон опять возник:
— Сегодня сбор!
И редкие зубы открыты в ухмылке. Думал, я снова голову опущу, как в тот раз. Но нет. Я Пухову в глаза посмотрел, кивнул спокойно: мол, задвигай, не возражаю. Давно задвинуть пора. И мне теперь от этой мысли легко. Верно сказал отец: жизнь полна противоречий.
После уроков в пионерской комнате весь наш класс. В Галином царстве нарядно, как на демонстрации. Знамя в углу стоит. Сбоку флажки всех отрядов в специальной стойке. Барабаны на полке замерли. Горны золотом горят. Стены плакатами увешаны. Посреди комнаты стол красной скатертью сияет. Хочется шепотом говорить. И на цыпочках ходить, как в музее.
Я вошел на цыпочках в Галин музей, присел на краешек стула, но Егоров пальцем меня поманил:
— Иди сюда, ты еще председатель.
И вот я сижу у красного стола, а Борис Егоров объявляет:
— На повестке дня: первое — мой уход в армию. Да, да, не шумите, ухожу, буду присылать вам письма и прошу меня от вожатства не освобождать.
Последнюю фразу Борис говорит Гале, она кивает, опустив голову и краснея: настроение у нее унылое. Пионерский галстук на ней всегда бодро топорщился красными усами, а теперь даже он грустно повис.
— Ничего, — бодро говорит Борис, — не грусти… — потом спохватывается, добавляет: — …те. Не грустите, будет у вас вожатый — солдат.
Ребята шумят, но, едва Борис руку поднимает, умолкают.
— Второй вопрос, — произносит он медленно, и мне кажется, в меня гвозди вбивают, — поведение председателя совета отряда. Слово имеет, — Борис смотрит на Галю, и старшая вожатая уже поднимается…
Но я вскакиваю раньше ее и говорю:
— Слово имею я сам.
Галя удивленно глядит на меня, а я спокоен. Совершенно. Наверно, все во мне перегорело.
Я оглядываю наш класс, ребят, которые «по петушкам» руку жали, девчонок, которые улыбались, когда я хотел, я смотрю на тех, кого недавно клял последними словами, считая предателями, и чуточку улыбаюсь. Да какие же они предатели? Даже самый большой мой враг, Злой Демон Пухов, по кличке Газовый Баллон, не предатель и не враг. Враг я сам. Сам себе.
И я говорю:
— Все обвинения справедливые.
— Ты их сначала выслушай! — кричит Газовый Баллон, поднимаясь с места. — Берешь инициативу в свои руки? Опять обмануть хочешь?
Уши у него как две красные фары. «Чудак, — думаю я про него беззлобно, — чего волнуешься? Это мне волноваться надо». В пионерской комнате шумно, совсем не как в музее. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Я сажусь. А Газовый Баллон загибает пальцы:
— С воскресника ушел — раз! Председатель называется. Нет, это — два. Раз — когда от собственного деда отказался. Три — своего деда за генерала выдавал. А у меня доказательства есть! — Он опять пальцы загибает. — Во-первых, он сам сказал, что простой пенсионер, а во-вторых… Во-вторых… — Пухов оглядывает комнату — флаги, горны, барабаны, — оглядывает победно всех ребят и торжественно заканчивает: — Во-вторых, я сам видел: он кладовщиком работает!
На публику это действует, народ бурлит и клокочет, кипит, словно вода в раскаленном чайнике. Кладовщик! А не генерал! Это надо же! Еще вчера меня бы это убило наповал. Теперь не убивает. Я поднимаюсь. Теперь надо мне говорить, оправдываться, и я повторяю дедушкины слова:
— А вы что, чистоплюи? Любая работа почетна, не знаете?
— Не воспитывай, — бушует Газовый Баллон. — Оправдывайся, если можешь.
— Оправдываюсь, — говорю я и улыбаюсь, — только еще самое главное обвинение ты забыл. Я понимаю, слово ведь мне давал. Третье желание по «американке». Я тебя от него освобождаю. Вот. Главное, — говорю я, глядя на Галю и Егорова, — главное, что меня в председатели за «американку» выдвинули, понимаете? Вот что главное.
В пионерской комнате тихо.
— Как-то непонятно, — говорит, словно про себя, Алька. — Его обвиняют, а он не оправдывается, а наоборот. Еще больше себя обвиняет.
— Откуда же у тебя генеральский мундир? — кричит вспотевший Пухов.
— Отец у меня в самодеятельности, понимаете? — отвечаю я. — Там по пьесе генерал есть. Вот он мундир и взял, дотумкали? Реквизит называется.
Что тут началось! Дым столбом. Все орали. Перебивали друг друга. Газовый Баллон на стул вскочил. И тут я услышал Кешкин голос.
— Эх вы, публика! — крикнул он, произнеся слово «публика» с презрением.
Все разом настороженно замолчали.
Кешка стоял у знамени, лицо его покрылось пятнами.
— Вы же его не из-за деда выбирали! — сказал он. — Сами тогда Гале доказывали! Так чего сейчас? Чего вам сейчас-то генерал потребовался?
Снова все заорали, и Гале пришлось колотить палочкой в барабан.
— Мы обсуждаем не дедушку! — воскликнула она. — Мы обсуждаем Рыбакова. Конкретно: его поведение на воскреснике.
— А дедушка у него генерал, — вдруг тихо сказал Кешка, и все притихли и обернулись к нему. — Мой дед с ним воевал. Мой дед сержант, но Антошкин дедушка не постеснялся на складе его заменить, когда мой заболел. Понятно вам, почему он кладовщик?
Все снова посмотрели на меня.
Лицо мое словно кипятком ошпарили. Меня бы должны снова ругать за то, что я тут про мундир плел, но ребята глядели на меня, как тогда, в самом начале. Хоть «по петушкам» прощайся. Но я сказал хрипло:
— Кончайте! Что вам мой дед дался! Я сам за себя отвечаю. И прошу меня из председателей снять. За позорное поведение. И за спекуляцию.
— Чем? — вякнул Пухов.
— Дедушкиной славой, осел!
БЕЛКА
Я выскочил со сбора первым и забился на пыльную лестницу, ведущую к чердаку. Меня искали, звали, я слышал голоса Альки и Кешки, но молчал. Слезы застилали глаза, а я улыбался. Мне было хорошо, понимаете? Жизнь полна противоречий, сказал отец. Вот и у меня были противоречия: я плакал, улыбаясь, — мне было и хорошо и тяжко сразу.
Я сидел долго.
Стало смеркаться. Наверное, закончилась смена на стройке.
Я выполз из убежища, оделся и поплелся домой. Все, что я сделал, было правильно и справедливо. Вот только что скажет дед, когда разузнает про мои дела? Эх, скажет, Антоха, опозорил меня… Разве перед ним теперь оправдаешься?