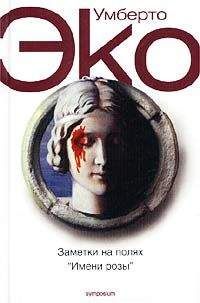Марк Арен - Там, где цветут дикие розы. Анатолийская история
Он понимал, что не должен молчать, но не знал, с чего начать свое повествование. С дождя, который загнал его под крышу крестьянского дома в Болгарии? Или с того дня, когда он покинул родную деревню и даже не оглянулся, уезжая?
Ну и что? Даже если Мустафа сейчас расскажет все это своим детям, они ничего не поймут. Он сам, с кем это все произошло, находится на грани понимания. Чего же требовать с родных…
Тяжело встав из-за стола, он достал из пиджака тетрадку и положил ее на стол.
— Что это? — в один голос спросили брат и сестра.
— Это? Это письмо. Письмо из прошлого. — Мустафа Гази, помедлив, передал листки перевода дочери. — Лейла, прочти вслух.
Дочь, слегка запинаясь, начала читать. Ее голос звучал сначала настороженно, затем все более взволнованно. Слушая ее, Мустафа с удивлением заметил, что понемногу избавляется от тяжести, что обрушилась на его сердце. В голосе Лейлы ему слышался голос матери. И казалось, что она сама обращается к нему сквозь непроницаемую толщу времен.
Когда дочь умолкла, в комнате повисла звенящая тишина.
— Как вы понимаете, Наапет — это я, — безучастно глядя в одну точку, сказал Мустафа.
— Вот так история, — как бы про себя проговорила внучка, прижав ладони к пылающему лицу.
Демир же стал белым как полотно.
— Что будет с Сулейманом, если он узнает? — спросил он, глядя на Мустафу. — Ты представляешь, что это будет за удар?
Ничего не ответил Мустафа, а только встал из-за стола и стал ходить взад-вперед по комнате, провожаемый тревожным взглядом сына.
— А что ты понимаешь под ударом, дядя? — спросила вдруг тихо Кадира. — Что дедушка — армянин? И что, мы тоже армяне?
Демир вновь побагровел:
— Что ты себе позволяешь! Чему вас учат в вашей Европе? Встревать в разговоры старших? Дерзить им? Никакого уважения!
— Не горячись, Кэт не сказала ничего такого, — вступилась за дочь Лейла. — Уже и спросить ничего нельзя, сразу Европа во всем виновата.
— Вот-вот, ты еще ее и поддерживаешь! Хочешь, чтобы она выросла такой же распущенной, как все эти, с килограммами штукатурки на лице? В шароварах ниже пупка? Этого ты хочешь?
Кадира, глядя в стол перед собой, сказала тихо, но твердо:
— Не говори так, дядя. Я не буду такой, потому что я внучка Гази, но я еще хочу стать свободным человеком.
— Свободным? От чего свободным?
Она откинула волосы с лица и распрямилась:
— От чужой вины! Я не хочу оправдываться всю жизнь! Я хочу избавиться от обвинений в том, в чем не замешана ни я, ни кто-то из моих родных!
— О чем ты, дочка? — удивленно спросила Лейла. — Кто тебя обвиняет?
— Не только меня! А всех нас! Я об обвинениях армян и им сочувствующих, — ответила девушка. — И с каждым годом их становится все больше.
Демир сразу сник, его педагогический пыл куда-то испарился. Он вяло махнул рукой:
— Не обращай внимания. Люди много чего говорят. А эти… Эти никогда не успокоятся.
Неожиданно Лейла вступила в разговор, возмущенно хлопнув в ладоши:
— Ну, Демир, ты в точности повторяешь то же, что твердят все турки в Германии! «Пусть говорят!» Ну и чего вы за эти годы добились? «Мы не замечаем этих обвинений, значит, их нет» — так, что ли? Такая страусиная политика нашей семье уже не поможет. Потому что для нас это уже внутрисемейный вопрос. Ты не понял? Наш отец — армянин. И мы с тобою — тоже! Как я теперь буду выслушивать все эти крики о геноциде и чью сторону мне теперь принять? Я не могу представить, что армянской крови у меня в жилах ничуть не меньше, чем привычной тюркской! Но и это не важно, важно, что Турция — моя родина. И это мой народ сегодня не ругает лишь ленивый. Чуть ли не каждый месяц то какой-то парламент, то штат, то муниципалитет, признают то, в чем нас армяне обвиняют. Скоро на нас будут гневно показывать пальчиком сборщики бабочек и поклонники однополой любви! Вы этого хотите? Я — нет!
— А чего ты хочешь? Чтобы мы приняли все обвинения и со всем согласились? — опешив от такого натиска, спросил ее Демир.
— Нет и еще раз нет! — горячо ответила Лейла. — Никто не сможет заставить нас признать то, чего не было. Но что-то было. — Лейла нервно вертела в руках салфетку. Потом отложила ее и сцепила пальцы. — Ведь кровь-то пролита. И мы должны от нее очиститься. Так же, как это сделали немцы. Для обвинения в Холокосте не нужны были доказательства; неостывшие трупы его жертв еще лежали в Дахау, Освенциме и Бухенвальде. И был суд, где нужно было найти виновных и доказать их вину. Но виновными назначили не весь немецкий народ, а только организаторов и исполнителей преступления. А армяне считают виновным каждого турка! Только потому что он турок!
— Мамочка, ты говоришь так, будто читаешь мои мысли, — воскликнула Кадира. — Я не хочу, не хочу и не буду носить на себе груз чужой вины!
— Вина за те события лежит не на нашем народе! — заявила Лейла. — То был народ османский. И случилось все во многом под давлением проигранной войны. Преступные деяния османов должен осудить сегодняшний народ, турецкий. Иначе это никогда не кончится. Каждый раз при каждом удобном случае нам будут тыкать в глаза нашим прошлым.
Мустафа как-то странно глядел на нее, покачивая седой головой.
— Папа, разве я не права? — спросила Лейла.
— Ни один суд на свете еще не вернул жизнь убитому, — сказал старик. — Суд только наказывает. Но ничего не исправляет.
Демир хотел что-то сказать, но осекся и только рукой махнул. А Лейла машинально переставляла посуду на столе, думая о чем-то, что хотела, но не могла сказать.
— Да, ничего не исправляет, — повторил Мустафа.
— Дедушка, милый дедушка, — вдруг заговорила Кадира, с сочувствием глядя на старика. — Как тебе сейчас тяжело. Наш математик рассказывал, что есть награды, обещанные за решение особо трудных задач. И рано или поздно их кто-то получит, потому что эти задачи, как бы сложны они ни были, все же имеют решение. Просто эти решения сегодня не видит никто. Что касается твоей задачи, то она неразрешима, ибо тебе нужно либо отказаться от прожитой жизни, либо забыть то, что ты сегодня узнал. Либо, либо. Третьего тебе не дано. Увы, это так. Но ведь ты же говорил мне, что Аллах никогда не нагрузит человека сильнее, чем тот может вынести? Значит, и ты все вынесешь. Та сила, что погубила твоих родителей, создала пропасть между тем, кем ты был, и тем, кем считался. А с годами люди по ее краям умудрились построить мощные стены. Ты говоришь, суд ничего не исправляет? Не спорю, человеческий — да. Но суд времени может исправить и не такое. Уже рождаются те, кто, позабыв былую вражду и распри, протянут руки навстречу друг другу. Они с обеих сторон разберут эти стены и из тех же камней построят прочный мост. Мост между соседними народами, которым по воле Аллаха суждено жить рядом. — Она покраснела и отвернулась. — И если честно, то я бы очень желала, чтобы это время наступило как можно скорее. Ибо эта пропасть разделяет не только страны. Увы, она разлучает сердца.
На этих словах у девушки вдруг задрожали губы, она резко встала и, прикрыв ладонью глаза, выбежала из комнаты.
Возникший вдруг сквозняк громко захлопнул за нею дверь. Удивленная ее речью, и особенно последними словами, Лейла хотела было что-то сказать дочери, но, не успев, только вздохнула.
— Что она сказала? — настороженно посмотрел на сестру Демир. — Какие сердца? Ты что-то понимаешь?
Мустафа снова встал и прошелся по комнате. Сын и дочь ждали от него каких-то слов, но он молчал.
Ему подумалось, что это молчание было сродни безмолвию мертвеца. Уже не в первый раз за последний день Мустафа спрашивал себя: «Уж не умер ли я?» И с каждым разом ему все сильнее казалось, что все происходящее — сродни смерти. Ведь если у старика отнять прошлое, он останется ни с чем. А ничто — это и есть смерть.
Да, смерть витала рядом с ним, и он молчал, как молчат на поминках.
В комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь звуком шагов Мустафы, продолжающего мерить комнату. Внезапно он остановился у телефона и, посмотрев в справочник, куда-то позвонил. Когда на том конце линии ему ответили, он поинтересовался ближайшим рейсом на Париж. Посмотрев на свои часы и вспомнив, что они стоят, он взглянул на те, что висели на стене, и, назвав свое имя, попросил зарезервировать место.
— Что ты потерял во Франции, отец? — удивленно спросил его Демир.
— Родителей, мой сын. Родителей, которых мы не выбираем. И если моего отца корабль отвез туда, то туда же, наверное, отправилась и моя мама. Я должен поклониться их праху до того, как меня к себе призовет Аллах. А времени у меня осталось очень мало, — сказал Мустафа и, потрепав, по плечу сына, вышел за дверь.
Спустившись на улицу, он сел в машину, и та, взвизгнув колесами, резко рванула с места.
Не обращая внимания на спидометр, он, опасно маневрируя между попутными и встречными машинами, примчался в аэропорт. Бросил, несмотря на крики парковщика, машину у входа и вбежал в здание. Взял билет на парижский рейс. Затем, отметившись у регистрационной стойки, прошел паспортный контроль и поспешил на посадку. А еще через пару минут, в который уже раз за сегодняшний день, оказался на борту самолета. Заняв свое место, он устало закрыл глаза. В Париже ему предстояла нелегкая работа, сродни тому, чтобы в стогу сена найти иголку, которой там, возможно, нет…