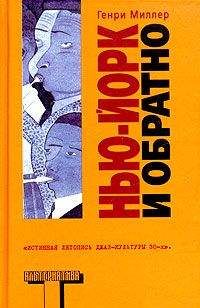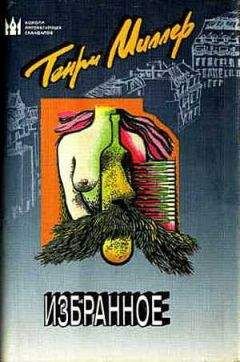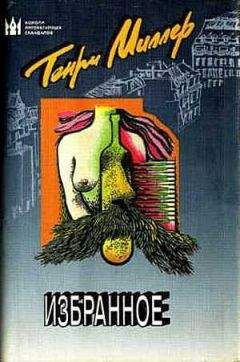Генри Миллер - Тропик Козерога
Это слово, помнится, преследовало меня с детства. Особенно им злоупотребляли родители. Что такое фанатик? Тот, кто беззаветно верит и поступает сообразно со своей верой. Я всегда верил во что-то и потому попадал в беду. И чем больше меня били по рукам, тем крепче я верил. Я верил, а мир вокруг меня — нет! Если бы речь шла только о вечном наказании — можно было бы идти в своей вере до самого конца; но мир избрал способ похитрее. Вас не наказывают — вас размывают, выдалбливают, из-под ног убирают почву. Это даже не предательство, вот что я думал. Предательство объяснимо и преодолимо. Нет, это хуже, это мельче предательства. Это — негативизм, в результате чего вы обманываете самих себя. Вы постоянно тратите силы на то, чтобы сохранить равновесие. Вас поражает некое духовное головокружение, вы балансируете на самом краю, ваши волосы стоят дыбом, вам не верится, что под ногами у вас неизмеримая бездна. А начинается это как избыток оптимизма, как страстное желание пойти навстречу людям, проявить к ним любовь. Чем решительнее ваши шаги навстречу миру, тем стремительней он убегает от вас. Никому не хочется истинной любви, истинной ненависти. Никто не даст вам прикоснуться к сокровенным недрам, исключение делается лишь для священника в час исповеди. Пока вы живы, пока кровь горяча — вы делаете вид, будто у вас вовсе нет ни крови, ни скелета, ни покрывающей скелет плоти. Сойдите с газона!
Вот лозунг, с которым живут люди.
Если вы продолжаете балансировать над бездной достаточно долго, вы становитесь настоящим знатоком: неважно, как вы дошли до жизни такой — вы всегда правы. В состоянии постоянной готовности вы развиваете в себе устрашающую веселость, неестественную радость, так бы я сказал. Сегодня на свете есть только два народа, понимающие смысл такого положения — это евреи и китайцы. И если вам не посчастливилось принадлежать к одному из них, вы в затруднительном положении. Вы смеетесь всегда там, где не следует; вас считают жестоким и бессердечным, тогда как на самом деле вы только грубоваты и рассудительны. Зато, если вы смеетесь вместе со всеми и плачете вместе со всеми, вы можете рассчитывать на жизнь и смерть, подобную их жизни и смерти. А это означает: победить и потерпеть поражение одновременно. Это означает: быть мертвым, когда вы живы, и стать живым, когда вы умерли. С таким обществом мир всегда выглядит нормально, даже в самых ненормальных условиях. Нет ничего правильного или неправильного — это надуманные понятия. Стало быть, вы опираетесь не на реальность, а на мысленные построения. А когда вам надо выбраться из тупиковой ситуации, мысленные построения не помогают.
В некотором смысле, глубоком смысле, я имею в виду, Христос так и не выбрался из тупика. Когда он хромал и пошатывался, словно в великом ужасе, подкатила волна отрицания и остановила смерть. Весь негативный порыв человечества, казалось, свернулся в чудовищную инертную массу и создал человеческое целое, единую личность, единую и неделимую. Было воскресение из мертвых, которое невозможно объяснить, покуда мы не примем как факт то, что люди всегда чего-то желают и ради этого готовы отвергнуть собственную судьбу. Земля вращается, звезды вращаются, но люди, великое тело людей, образующее наш мир, воплощается в образе одного и только одного.
Если кто-то не распят, подобно Христу, если ему удалось выжить и жить, не ведая о тщетности и безысходности, случается еще одна любопытная вещь. Словно некто действительно умер и на самом деле воскрес: и живет сверхнормальной жизнью, как китайцы. То есть, он неестественно весел, неестественно здоров, неестественно бесстрастен. Трагического привкуса нет: он живет как цветок, как скала, как дерево, сообразно Природе и против Природы в одно и то же время. Когда умирает друг, вы не торопитесь на похороны; когда трамвай переезжает человека на ваших глазах, вы продолжаете прогулку как ни в чем не бывало; когда началась война, вы провожаете друзей на фронт, ничуть не проявив интереса к бойне. И так далее, и тому подобное. Жизнь становится спектаклем, и если вы сподобились стать актером, вы проигрываете скоротечное шоу. Одиночество отменяется, ибо все ценности, включая ваши собственные, уничтожены. Расцветает лишь сочувствие, но это не человеческое сочувствие, ограниченное сочувствие — это нечто чудовищное, дьявольское. Вас очень мало трогает идея принести себя в жертву кому-то или чему-то. В то же время ваш интерес, ваше любопытство развивается невероятно. Это тоже подозрительно, поскольку способно уцепиться за пустяк как за причину. Нет фундаментального, однозначного различия между фактами: все течет, все изменяется. Оболочка вашего существования постоянно крошится: внутри, однако, вы тверды, точно алмаз. И, может быть, именно этот твердый, магнитный сердечник волей-неволей притягивает к вам людей. Одно несомненно: когда вы умрете и воскреснете, вы станете принадлежностью земли, и все, состоящее из земли, будет неотъемлемо вашим. Вы становитесь аномалией природы, существом без тени; впредь вы не умрете, а лишь уйдете, как и все, с вами связанное.
Ничего из того, что я сейчас пишу, не было мне известно в то время, когда я преодолевал величайший кризис. Все, испытанное мною, было словно подготовка к тому моменту, когда, надвинув однажды вечером шляпу, я вышел из офиса, из прежней личной жизни и увидел женщину, которой было суждено освободить меня от смерти заживо. В этом свете я теперь оглядываюсь назад на свои ночные хождения по улицам Нью-Йорка, на белые ночи, когда я гулял во сне и видел город, в котором родился, как видят мираж. Часто меня сопровождал О'Рурк, наш детектив, с которым я ходил по затихшим улицам. Часто на земле лежал снег, а воздух дышал морозом. И О'Рурк болтал без остановки о кражах, об убийствах, о любви, о человеческой природе, о Золотом Веке. У него была привычка, начав разговор, вдруг остановиться посреди улицы и всадить свою тяжелую ступню между моих, так что я не мог двинуться с места. И тогда он хватал меня за лацкан и приближал свое лицо к моему, говоря мне прямо в глаза, причем каждое слово ввинчивал, будто штопор. Я как наяву вижу нас, стоящих посреди улицы в четыре утра: свищет ветер, метет снег, и О'Рурк, забывший обо всем, кроме истории, которую он непременно должен рассказать. Всегда во время его рассказа я краем глаза отмечал все, что происходило вокруг, и теперь помню не то, что он рассказывал, а то, что мы стояли на Йорквилле или на Аллен-стрит или на Бродвее. Мне всегда казалась слегка ненормальной та серьезность, с какой он излагал банальные истории об убийствах посреди величайшей неразберихи архитектуры, когда-либо созданной человеком. Он толковал об отпечатках пальцев, а я изучал форму парапета, карниза или небольшого красно-кирпичного строения за его черной шляпой; я размышлял о том дне, когда установили этот карниз, и кто был тот человек, который его спроектировал, и почему он задумал его столь безобразным, так похожим на все прочие дрянные, отвратительные карнизы, мимо которых мы проходили по пути от Ист-Сайда к Гарлему, и дальше Гарлема, если нам хотелось продолжить прогулку, дальше Нью-Йорка, за Миссисипи, за Большой Каньон, за пустыню Мохаве — всюду в Америке, где выстроены здания для человека. Мне казалось совершенно безумным, что всю жизнь я должен сидеть и слушать истории посторонних людей, банальные трагедии бедных и несчастных, трагедии любви и смерти, томлений и разрушенных иллюзий. Если, как это бывало, за день через меня проходило пятьдесят человек, и каждый излагал свою скорбную историю, и с каждым мне приходилось быть спокойным и учтивым — очень естественно, что когда-то мне требовалось заткнуть уши и ожесточить сердце. Мне хватало незначительнейшего, мельчайшего кусочка: я мог пережевывать и переваривать его днями и неделями. И, все же я был приговорен сидеть, заваленный по уши, а по ночам выходить и опять слушать, спать слушая и думать слушая. Ко мне стекались со всего света, из всех слоев общества, говорящие на тысяче языков, поклоняющиеся разным богам, уважающие разнообразные законы и установления. История самого несчастного из них могла бы составить огромный том, и тем не менее если бы их все до одной записать полностью — написанное можно сжать до размеров Десяти Заповедей, все они могли быть записаны на обороте почтовой марки, как «Отче наш». Каждый день я так напрягался, что моя шкура, казалось, объемлет весь мир; а когда я оставался совсем один, когда мне уже не надо было слушать, я сжимался до размеров булавочного острия. Величайшим наслаждением, таким редким, было прогуляться по улицам одному… прогуляться по ночным улицам, когда никто не шел рядом, и вслушаться в тишину, окружавшую меня. Миллионы лежали на спине, глухие к миру, и изо рта у них вырывался только храп. Гуляешь среди дичайшей архитектуры и думаешь, зачем и почему из этих проклятых хибар или напыщенных дворцов вытекают полки людей, стремящихся разложить по полочкам историю своего несчастья. За год, и это скромная оценка, я выслушал двадцать пять тысяч историй; через два их стало пятьдесят, через четыре стало бы сто тысяч, а через десять я бы окончательно и бесповоротно спятил. Я познакомился с людьми, которых хватило бы, чтобы населить приличный город. Ну и городок это был бы, коль они собрались бы все вместе! Захотелось бы им небоскребов? Пожелали бы они музеев? Захотели бы библиотек? Возвели бы канализацию, мосты, стадионы, заводы? Создали бы карнизы, похожие один на другой ad infinitum,[4] от Баттери Парк до Голден Бей? Сомневаюсь. Ими движет только чувство голода. Пустое брюхо, дикое выражение глаз, страх, страх перед еще худшим — вот что движет ими. И строят они высоченные небоскребы, устрашающие дредноуты, варят чистейшую сталь, плетут тончайшее кружево, выдувают изящную посуду по одной причине: от отчаяния, подстегиваемые хлыстом голода. Гулять с О'Рурком и слушать только о воровстве, поджогах, изнасилованиях, убийствах — это лишь неосновная тема большой симфонии. И точно так же, как можно слушать Баха, а думать о женщине, с которой хочется переспать, так и я, слушая О'Рурка, думал о том, что вот он наконец кончит болтать и спросит: «А не перекусить ли нам?» В самый захватывающий миг рассказа об ужасном убийстве я думал о свином филее, который мы наверняка закажем в одном местечке по пути, гадал, какими овощами будет этот филей гарнирован и закажу ли я после пирог или сбитые сливки. Так было и когда я спал с женой: пока она стонала да лепетала, я мог вспомнить, что она не очистила кофейник от сливок, ведь за ней водилась дурная привычка оставлять посуду грязной — важная деталь, я считаю. Свежий кофе — это важно. И свежая яичница с ветчиной. Если она забеременеет — это плохо, кроме шуток плохо, но гораздо важнее все-таки свежий кофе по утрам и запах яичницы с ветчиной. Я могу вынести большое горе, лишения, неудачные романы, но мне необходимо иметь кое-что в желудке, и я хочу чего-нибудь питательного и аппетитного. То же самое чувствовал бы и Христос, если бы его сняли с креста прежде чем наступила телесная смерть. Уверен, что шок вследствие распятия оказался бы настолько силен, что привел бы к полной амнезии человеколюбия. И наверняка после залечивания ран он и гроша ломаного не дал бы за несчастья человечества, а с большим удовольствием набросился бы на чашечку свежеприготовленного кофе и поджаренные хлебцы, если, конечно, тогда это было доступно.