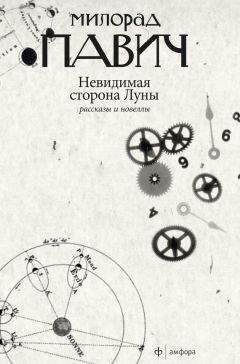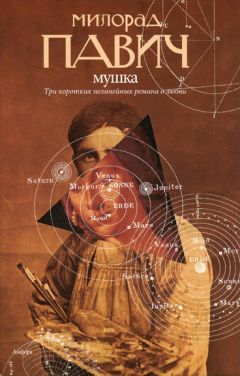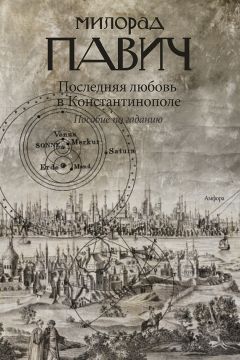Милорад Павич - Ящик для письменных принадлежностей
Здесь я хотела бы заметить, что меня уже не на шутку беспокоило то упорство, с которым он делал вид, что мы до сих пор никогда не встречались. Я взяла гитару и собралась продолжить занятие, однако он к своему инструменту даже не притронулся. Неожиданно он подошёл ко мне со спины, обнял, и не успела я рвануться, как он взял первый аккорд на моей гитаре, продолжая держать меня в объятиях. Аккорд был хрустально ясным, правая рука делала своё дело безошибочно, и он тихо, хрипловатым голосом, запел какую-то старинную песню. Через каждые два слова он целовал меня в шею, и я глубоко вдыхала запах его необыкновенных духов, подобного которому я никогда раньше не встречала. Слова его песни не были французскими, это был какой-то странный, незнакомый мне язык:
В рубашке тихой завтрашних движений
Недвижим
Прирос глазами я к твоей груди
Хочу насытить сердце
— Это сербские слова? — спросила я его.
— Нет, — ответил он, — с чего вы это взяли?
Не докончив песню, он оборвал её на полуслове и начал медленно раздевать меня. Сначала шапочку и туфли, затем кольца и пояс с перламутровой пряжкой. Потом через блузку он расстегнул на мне лифчик. Тогда и я принялась снимать с него одежду. Дрожащими пальцами рвала на нём рубашку, а когда с этим было покончено и мы остались нагими, он швырнул меня на постель, сел рядом, задрал вверх свою левую ногу и начал натягивать на неё мой шёлковый клетчатый чулок. Затем на правую ногу натянул второй. Я с ужасом заметила, что эти только что снятые с меня чулки выглядят на нём гораздо лучше, чем на мне, то же самое можно было сказать и о моей новой юбке и блузке, которые так же пришлись ему впору. Тимофей, великолепно выглядевший в одежде, которую он только что купил для меня, опустил руки, обул мои туфли, причесался моей расчёской, небрежно натянул на голову мою шапочку, быстро накрасил губы и торопливо вышел из дома…
Я осталась без слов и без одежды, одна в пустой квартире, и у меня было лишь два выхода — выбраться отсюда в его мужской одежде или же ждать. Тут мне пришло в голову поискать, не найдётся ли случайно в квартире женских вещей. В каком-то сундуке я обнаружила чудесную старинную блузку, расшитую серебряными нитками, с монограммой «А» на воротнике. И юбку со шнуровкой. На изнанке я обнаружила вышитое слово «Roma». Эти старые вещи были привезены из Италии. «Ими не пользовались целую вечность, но что мне за дело до этого», — подумала я. Размер мне подошёл, я оделась и вышла на улицу. Он сидел в ближайшем ресторане, ел гусиный паштет и пил «Сотерн». Когда он увидел меня, глаза его сверкнули, он встал и поцеловал меня гораздо более страстно, чем это пристало бы двум высоким девушкам, приветствующим друг друга вечером на улице. Во время этого поцелуя моя губная помада на его губах приобрела странный запах, и мы торопливо вернулись в его квартиру.
— Как идут тебе вещи моей тётки, — прошептал он и начал ещё на лестнице раздевать меня. Влетев в квартиру, мы даже не успели закрыть дверь, а он был уже на мне, вытянувшись в струну, подобно прыгуну в воду, — ладони сомкнуты над моей головой, ступни с оттянутыми носками соединены друг с другом. Прямой, как копьё, чей полет продолжается и тогда, когда самого копья уже нет. Больше я ничего не помню…
Быстрее всего человек забывает самые прекрасные моменты своей жизни. После мгновений творческого озарения, оргазма или чарующего сна приходит забытьё, амнезия, воспоминания стираются. Потому что в тот миг, когда реализуется прекраснейший сон, в миг творческого экстаза — зачатия новой жизни человеческое существо на некоторое время поднимается по лестнице жизни на несколько уровней выше, но оставаться там долго не может и при падении в явь, в реальность, тут же забывает миг просветления. В течение нашей жизни мы нередко оказываемся в раю, но помним только изгнание…
***
Наши уроки музыки превратились в нечто совсем иное. Он, казалось, был околдован мною. Как-то раз сказал, что хотел бы показать мне свою мать и тётку.
— Но, — добавил он, — для того, чтобы их увидеть, придётся отправиться в Котор, в наш фамильный дом, который я только что получил в наследство. Это в Черногории. Война там закончилась, так что можно съездить.
И показал мне старинный позолоченный ключ с головкой в виде перстня. Затем надел его мне на палец как будто обручился со мной. На руке этот ключ выглядел как кольцо с прекрасным дорогим камнем сардониксом. В тот же миг со мной произошло что-то странное. Я как наяву вдруг увидела его дом, правда не снаружи, а изнутри, причём всего лишь на основе веса ключа, воображение нарисовало передо мной какую-то раздваивающуюся лестницу. Тем не менее я ничего не ответила на его предложение…
2
Когда мы приехали в Котор, стояла тихая, безветренная погода. Лодки покачивались над своими перевёрнутыми отражениями, и казалось, будто моря нет вовсе. По белым склонам гор скользили чёрные тени облаков, похожие на быстро перемещающиеся озёра.
— Вечером здесь достаточно вытянуть руку, и ночь упадает тебе прямо в ладонь, — сказал он.
— Не говори, где твой дом, — сказала я, надев головку ключа на палец, — мне кажется, я сама найду дорогу к нему, ключ приведёт меня прямо к замочной скважине.
Так оно и получилось. Следуя за вытянутым ключом, я оказалась на небольшой площади. Это была, как выяснилось, «Салатная площадь», именно на ней стояло обиталище его предков — которский особняк Врачей. На нём был номер 299.
— Что значит Врачей? — спросила я его.
— Не знаю.
— Как не знаешь?
— Не знаю. Это по-сербски, а я не знаю сербского.
— Не валяй дурака! — сказала я.
На миг мы задержались под фамильным гербом. Над нашими головами два каменных ангела держали ворону на золотой перекладине.
— Настоящая древность, — сказал он мне о доме, — в нём обитают звуки, которым более четырёхсот лет. После Второй мировой войны, при коммунистах, дом был национализирован. Недавно здешние власти вернули его в собственность нашей семьи. Я знаю, что в четырнадцатом веке дом принадлежал вдове Миха Врачена, госпоже Катене. Катеной звали и мою мать…
Стены дома были отделаны штукатуркой кирпичного цвета, в неё была добавлена дробленая крошка. Но меня заинтересовало не это. Я сгорала от нетерпения увидеть дом изнутри. Повернула ключ в замке. Во дворе стоял каменный колодец. Огромный, ещё более старый, чем дом, он был наполнен звуками из тринадцатого века. Как только мы вошли, на меня повеяло запахами, которые пережили века, и я подумала, что враждебный запах любого обиталища может на самом пороге отпугнуть женщину и не дать ей войти. Дом был невероятно запущенным и грязным. Тут же я увидела расходящуюся на две стороны лестницу. Я её сразу узнала. Лестница была украшена бледной настенной живописью с подписью какого-то итальянского художника по имени Napoleon D'Este. Впрочем, вовсе не это было самым важным. На верхней площадке, где сходились обе лестницы, висело по прекрасному женскому портрету в полный рост.
— Их я и хотел тебе показать,— сказал Тимофей. — Вот эта, справа, темноволосая — моя тётка, а другая — мать.
В позолоченных рамах я увидела двух красавиц, одна из которых была изображена с изумительными зелёными серьгами на фоне волос цвета воронова крыла, вторая, может быть даже более красивая, была совершенно седа, хотя так же молода и стройна, что и первая. На руке её был нарисован перстень с дорогим сардониксом, в нём я узнала головку того самого ключа, который сейчас находился у меня на пальце. Оба портрета были подписаны одним художником — Марио Маскарелли.
Между тем нас никто не встречал. Напрасно я с нетерпением оглядывалась, ожидая увидеть его мать, госпожу Катену, или хотя бы тётку. Нет, никто не появился. Мозаичный пол из дерева и кости и инкрустированные двери привели нас в комнату на втором этаже, а потом в маленькую домашнюю церковь, которая находилась над входом в дом. В полумраке церкви, стоя на коленях, молилась какая-то старуха. Я подумала, что, может быть, это его мать или тётка, но, когда спросила его об этом, он сладко улыбнулся:
— Да нет, это Селена, наша старая служанка.
В третьей комнате я увидела поясные портреты тех же двух красавиц, чрезвычайно похожих друг на друга. На тёткином портрете была изображена гитара, а на портрете матери одна из церквей Котора. На заднем плане и того и другого портрета виднелись сценки которского карнавала. Тут он сказал, что тётка завещала его будущей избраннице свои драгоценные серьги.
— Правда, при одном условии, — добавил он, — моя возлюбленная должна уметь играть на гитаре. Судя по всему, серьги предназначаются тебе.
Тогда я спросила:
— Где они?
Он ответил, что они давно мертвы.