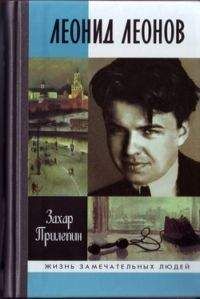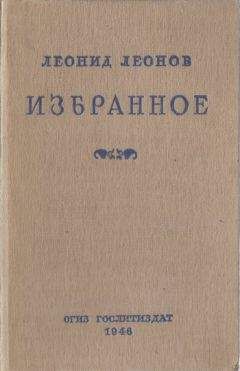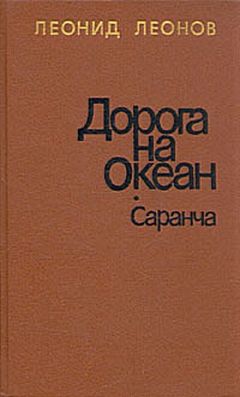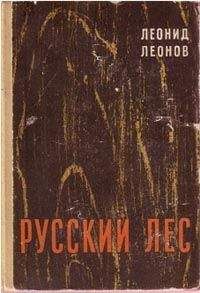Леонид Леонов - Пирамида. Т.1
Ослабевшие пальцы еле держат кружку с малиновым отваром, но тем отрадней крохотный просвет к выздоровленью. Слеза бежит при мысли о доставленных заботах: «...и доктора не призовешь без страхового-то листка, да и сама бумажка на существованье далеко»! Численник в простенке указывает на длительность оказанного Матвею гостеприимства. Пожалуй, меньше-то чем за трое суток и не пропустить было бы целое человечество со всем его скарбом через истончившийся, кровоточащий мостик сознанья... И все еще тянутся завершающие арьергард. И в передышках каждый раз Матвею становится совестно за род людской, что после двадцативековой работы Христос остается один...
— Не чаял в живых остаться, старушка ты моя родная, эва, чистый да прибранный лежу, ровно барин какой. Горше всего, что и отплатить бродяге нечем...
— А нам твоего и не надо. Мы и так за все благодарные!
Помимо старинного народного поверья, что иной высокий гость скрывается под рубищем постучавшегося странника, она и впрямь признательна была за свалившуюся ей на руки обузу, малость поотвлекшую ее от созерцания ранней могилы. Она была так простодушна, что представлялось бессовестным — монетой профессионального утешения воздавать ей за оказанную милость. Как ни вертелось на языке подоспевшее было к месту красивое сравнение, что бессонным, истинно-евангельским трудом своим словно рублик новенький внесла в небесную сберкассу, постеснялся произнести ей в лицо.
— Ведь я не в смысле деньжат, добрая старушка, — настаивал о.Матвей. — Может, обувка в доме скопилась неисправная... так ты не гляди, что больной: на иглу рука у меня ловкая да проворная.
— Уж полеживай, раз на ногах не стоишь. И обувка у нас, слава Богу, пока в целости! — и все хлопотала вкруг чужого старика, заварной малиной поила, одеяло лоскутное подтыкала со всех сторон, чтоб не зябнул.
В довершенье первого знакомства о.Матвей приоткрыл ей немножко про себя, хотя и в не полном объеме, объяснив свое скитание якобы приспевшей под старость непременной потребностью повидать перед смертным часом любимого сынка, проживающего на холодных отрогах гор сибирских... Только и было разговора между ними, а тремя часами позже заглянувшие перед ужином хозяева, к немалому удивлению своему, обнаружили жильца в полном дорожном снаряженье, на ногах. Прихватываясь для верности за стенку, он обматывал себя по поясу пеньковой веревкой, которую наравне с топором и заплечной сумою почитал немаловажной страховочной снастью российского существования. Собравшись уйти втихомолку и чтоб благодетелей не беспокоить, он и постель успел сложить, и раскладушку в уголок пристроить.
Горбун Алексей долго взирал на жалкое зрелище, невольно служившее к познанию действительности, потом мать с прискорбием обиды осведомилась, далеко ли собрался, на ночь глядя, знаменитый ходок и путешественник. Оставалось изъясниться начистоту:
— Спасибо, добрые люди, вовек не забуду. Кабы не вы, то и лежать мне нонче в прохладном помещении с небольшим полешком в головах. И вы себя не попрекайте... а раз прибило волною ночной мертвое тело, вы толканите его легонько, оно и поплыло своим путем. Понежилось на бережку, пора и честь знать!
— Видать, совесть заела, что нищих разорил дотла?
— А не в том дело, мать, — учительно сказал о.Матвей. — Вот мнится мне с утра, будто стучатся за мною... а не видать, кто за дверью-то стоит: может, вовсе и не человек с ружьем. Не ровен час — помру, куда вы, милые, покойника денете? Без снежка и на салазках не отвезешь, получаются лишние хлопоты.
— Так ведь упадешь через двадцать шагов, поп глупый.
— Тоже неплохо. Отлежуся, как дворники не заметут, и опять с Богом в дорогу. Бродяжке спешить некуда... — И еще раз с церемонным поклоном попросился отпустить его домой, не уточняя значение последнего слова.
Так убедительно звучали Матвеевы доводы, что скрепя сердце хозяева согласились на его уход с условием отложить до завтрева. В самом деле о.Матвею оставалось досмотреть великий исход человечества, и чуть смежил веки, пришла в движенье необозримая равнина, но уже без подробностей и свидетелей. Утром горбун Алеша ездил на вокзал выправить билет батюшке, а после обеда состоялась, наконец, беседа наставника с благодетельницей. Неизвестно, чего он по старинке нашептал ей в уголке, но только блеск жизни появился у ней в глазах, будто и впрямь повидалась с любимой внучкой...
К отъезду все было пересказано, расставались молча: не родные. Ради особой конспирации беглец позволил проводить себя лишь до такси, по его же настоянью вышли через заднюю скрытную калитку, где благодарная хозяйка вручила отбывающему попу узелок провианта, принятый с ритуальным поклоном — как когда-то поминальную кутью. Держась за что-то и, видно, сослепу, старуха все кланялась ему вдогонку, благодарная за душевное облегченье на расставанье с жизнью, которую без боли и сожаленья покинула три дня спустя.
В предвиденье неминуемых дорожных осложнений, по привычке русских, путешественник отправился на вокзал в одиночку двумя часами раньше расписания.
— Куда ехать-то? — обернувшись через плечо, спросил таксист.
— Голубь мой, куда я нонче направляюся, — ответил ему о.Матвей, — оттуда возврата нет, — и в ту минуту это была сущая правда, так как отправлялся он в свое скитание с твердым намерением сгинуть, бесследно раствориться в алтайских дебрях.
Глава XXVI
И вот уже двое суток о.Матвей ехал в поезде. Покачиваясь на верхней вагонной полке, было так славно и почти бесскорбно, как умершему, смотреть струящиеся внизу за окном паровозные искры, убегающие назад российские пространства, но всех дорог мира не хватило бы укачать его печаль. По ходу поезда, шедшего без остановок, уже пройдены были все фазы расставанья с прошлым — вплоть до момента, когда еще теплится мысль, но уже исчезает осязанье, и наконец затухающая надежда остается наедине со страхом — выйти наружу, где тебя охватит озноб потусторонней новизны. Все больней натягивалась соединительная нить с домом и семьей, не рвалась наотрез.
Усыпляюще прыгали в окне нитки телеграфных проводов, и первые два дня никакие посторонние впечатления не достигали его сознания. Лишь на третьи сутки стал различать своих попутчиков, прислушиваться к их беседам за откидным столиком. Однажды привлекла его вниманье чинная беседа и тема, близкая ему по судьбе и полузапретной специальности. На чей-то скрипучий вопрос — далече ли стопы наладил? — такой же стариковский голос отвечал, что вот, супругу схоронивши, направляется от горестных воспоминаний, с головой зарыться в глушь алтайскую, буде уцелел хоть клочок человечьей целины.