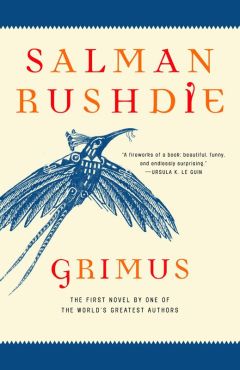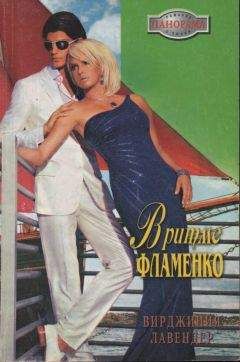Салман Рушди - Дети полуночи
Тем не менее, оглядываясь назад, я думаю, что влюбился в нее сразу, еще до того, как мне сказали… есть ли доказательство невыразимой, немыслимой любви Салема к сестре? Да, есть. Джамиля-Певунья унаследовала одну страсть от исчезнувшей Медной Мартышки: она любила хлеб. Чапати, паратхи, испеченные на тандуре наны[100]? Да, но. Так что же: предпочтение отдавалось дрожжевому тесту? Именно так; моя сестра – несмотря на патриотизм – вечно тосковала по дрожжевому хлебу. И где же, во всем Карачи, можно было достать настоящие, высокого качества, хорошо поднявшиеся, пышные буханки? Конечно, не в булочной; лучший в городе хлеб продавали через окошечко в глухой стене каждый четверг, по утрам, сестры-монахини скрытого от глаз профанов ордена святой Игнасии. Каждую неделю я садился на мотороллер «Ламбретта» и привозил сестре теплый, свежий монастырский хлеб. Невзирая на длинную, извивающуюся змеей очередь; презрев пряные, жаркие, пропитанные навозом запахи узких улочек вокруг монастыря; забывая обо всех прочих делах, я ездил за хлебом. В сердце моем не было ни капли осуждения; ни разу не спросил я сестру, как сочетаются между собой эта последняя память о ее прежних заигрываниях с христианством и ее новая роль Соловья Правоверных…
Возможно ли проследить, как зародилась эта противоестественная любовь? Может быть, Салему, всегда мечтавшему занять место в центре истории, вскружило голову то, что его собственные надежды сбылись у его сестры? Может быть, со-всех-сторон-изувеченный уже-не-Сопливец, отсеченный от Конференции Полуночных Детей так же, как и изрезанная ножом маленькая нищенка Сундари, он влюбился в новоявленную цельность, которой достигла Джамиля? Бывший когда-то Мубараком, Благословенным, обожал ли я в своей сестре исполнение моих самых сокровенных желаний?.. Скажу одно: я и сам не знал, что творилось во мне, пока, стиснув мотороллер своими шестнадцатилетними ляжками, я не начал гоняться за шлюхами.
Пока Алия медленно тлела; в первые дни полотенец «Амина-Брэнд»; среди апофеоза Джамили-Певуньи; когда разноуровневый дом, вырастающий из пуповины, был еще далек от завершения; во время поздно расцветшей любви моих родителей; в окружении довольно бесплодных истин Земли Чистых, Салем Синай примирился с самим собой. Не скажу, чтобы он не грустил; не желая подвергать цензуре мое прошлое, я должен признаться, что он так же дулся, забивался в свой угол, несомненно, так же страдал от прыщей, как и большинство мальчиков его возраста. Его сны, из которых ушли дети полуночи, переполнялись ностальгией, доходившей до тошноты; часто он просыпался от спазмов в горле, когда тяжелый, мускусный дух сожалений пропитывал его чувства; в кошмарах ему являлись марширующие числа – раз, два, три, и пара сжимающих, давящих, цепких коленей… но зато у него появился новый дар, да к тому же мотороллер «Ламбретта» и (еще не осознанная) смиренная, покорная любовь к сестре… Отвращая свой взор повествователя от уже описанного прошлого, я настаиваю на том, что Салему, тогда-как-и-сейчас, удалось направить свое внимание к еще-не-описанному будущему. Убегая при первой возможности из дома, где едкие испарения теткиной зависти делали жизнь невыносимой, выходя из колледжа, наполненного другими, но столь же неприятными запахами, я вскакивал на моего двухколесного коня и разъезжал по улицам города, жадно впитывая незнакомые ароматы. А после того, как мы услышали о смерти деда в Кашмире, я преисполнился еще большей решимости утопить прошлое в густом, кипящем, пахучем вареве настоящего… О первые, головокружительные дни, еще до того, как все будет разнесено по рубрикам! Безвидные, ибо я пока не соотнес их с какой-то формой, запахи вливались в меня: тоскующие, разлагающиеся испарения звериных фекалий в садах музея на Фрер-роуд, запах испещренной гнойниками плоти молодых людей в широких штанах, образующие живую цепь в вечера Садара; острый, как нож, дух бетелевых плевков и горько-приторное сочетание бетеля и опиума: «ядерным паном» насквозь пропахли аллеи между Эльфинстон-стрит и Виктория-роуд, где кишели торговцы вразнос. Запахи верблюдов, запахи машин; раздражающий, словно мошкара, душок велорикш; аромат контрабандных сигарет и черного рынка; перебивающие друг друга миазмы водителей городских автобусов и немудрящий пот пассажиров, набившихся в салон как сельди в бочку. (Один водитель в те дни настолько взбесился оттого, что его перегнал соперник, работавший на другую компанию – тошнотворный смрад поражения так и сочился из его желез, – что ночью подъехал на своем автобусе прямо к дому врага, вопил и улюлюкал, пока тот не показался, и затем раздавил его в лепешку – весь, как моя тетка, провоняв местью). Из мечетей сочился на меня ладан благочестия; из армейских автомобилей с развевающимися флажками долетали напыщенные испарения власти; даже с афиш кинотеатров шибал мне в нос дешевый дух штампованных заграничных вестернов и самых яростных военных фильмов, какие только производились в мире. В то время я был словно одурманен; голова у меня кружилась от сложных запахов; но потом искони присущее мне стремление все раскладывать по полочкам возобладало, и я пришел в норму.
Индо-пакистанские отношения испортились; границы были закрыты, так что мы не смогли выехать в Агру на траур по моему деду; эмиграция Достопочтенной Матушки в Пакистан тоже несколько отсрочилась. Между тем Салем разрабатывал общую теорию обоняния, приступив к процедурам классификации. Подобным научным подходом я решил почтить память покойного деда. Начал я с того, что усовершенствовал свое умение распознавать запахи до такой степени, что мог различать бесконечные разновидности бетеля и (с закрытыми глазами) все двенадцать доступных нам сортов шипучих напитков. (Задолго до того, как американский радиокомментатор Херберт Фелдмен, явившийся в Карачи, сетовал, что в городе существует двенадцать сортов газированных вод и только три фирмы, поставляющие молоко в бутылках, я, завязав глаза, мог сказать, где пакола, а где хоффманс-мишен, где цитра-кола, а где фанта. Фелдмен увидел в этих напитках проявление империализма и капитализма; мне, который нюхом чуял, где канада-драй, а где севен-ап, безошибочно отличая пепси от колы, было интереснее подвергнуть их всестороннему испытанию на запах. Дабл-кола и кола-кола, перри-кола и баббл-ап тоже были определены вслепую и обозначены). Только когда я убедился, что освоил все запахи материального мира, я перешел к ароматам, доступным только моему обонянию; я стал различать, как пахнут чувства; тысяча и один порыв, те самые, что и делают нас людьми: любовь и смерть, алчность и смирение, иметь и не-иметь были снабжены ярлычками и заняли свое место в аккуратных, чисто прибранных отсеках моего ума.