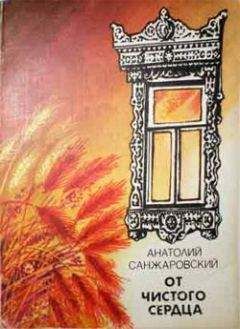Филип Рот - Американская пастораль
Со сватьями дело было похуже; им было никак не нащупать предметов, дающих простор для беседы, и связано это было с тем, что, хоть Дороти Дуайр и проявляла в День благодарения известную словоохотливость — наполовину замешенную на нервозности, — предметом словоохотливости была исключительно церковь. «Сначала в порту построили церковь Святого Патрика, и Джим был ее прихожанином. Немцы создали свой приход при церкви Святого Михаила, поляки — при церкви Святого Адальберта, что была на углу Третьей улицы и Ист-Джерси-стрит, а также при церкви Святого Патрика, располагавшейся за Джексон-парком, сразу за углом. Церковь Святой Марии стоит на юге Элизабета, в районе Уэст-энда, именно там жили сначала мои родители. У них там была молочная на Маррей-стрит. Церкви Святого Патрика, Святого Сердца, та что в северной части Элизабета, Святого причастия и Непорочного зачатия — все ирландские. И Святой Катарины — тоже. Это уже в стороне, в Вестминстере. Можно сказать, на границе города. Собственно, это уже Хилсайд, но школа через дорогу еще в Элизабете. Ну и, конечно, наша церковь, Святой Женевьевы. Сначала она была под эгидой церкви Святой Екатерины. Маленькая деревянная церковь. Но теперь это большая красивая церковь. Это строение… Помню, когда я впервые вошла туда…»
Вынести это было трудно. Дороти Дуайр без остановки сыпала названиями, и Элизабет превращался в ее устах в какой-то средневековый город: в безбрежных полях трудятся крестьяне, а единственные строения, по которым можно ориентироваться, — шпили торчащих в отдалении приходских церквей. Дороти Дуайр безостановочно говорила о святой Женевьеве, святом Патрике и святой Катарине, а Сильвия Лейвоу сидела напротив, скованная вежливостью, кивала и улыбалась, но была белая как полотно. Выслушивала до конца — хорошие манеры помогали справиться. Так что, в общем и целом, все было отнюдь не так страшно, как они опасались вначале, да и виделись-то всего раз в году — на нейтральной и внерелигиозной почве Дня благодарения, когда все едят одно и то же, и никому не приходится фыркать по поводу странных блюд. Ни клецок, ни фаршированной рыбы, ни горькой зелени — одна лишь индюшка, огромнейшая индюшка на двести пятьдесят миллионов граждан; одна огромнейшая индюшка, насыщающая всех. И мораторий на любые странные кушанья, странные нравы, религиозную исключительность; мораторий на трехтысячелетнюю еврейскую тоску, мораторий на Христа, крест и распятие, мораторий, дающий возможность всем, кто живет в Нью-Джерси и во всех других штатах, спокойнее, чем круглый год, относиться к необъяснимым пристрастиям соседей. Мораторий на горечь и сожаления, накладываемый не только на Дуайров и Лейвоу, но и на каждого американца, с подозрением посматривающего на того, кто от него отличается. Вот она, чистая американская пастораль, и длится она одни сутки.
— Это было чудесно. Президентская каюта состояла из целых трех спален и гостиной. Вот что в то время значило обладать титулом «Мисс Нью-Джерси». Лайнер трансатлантической компании. Думаю, что никто не зарезервировал эту каюту, и, когда мы поднялись на борт, они просто отдали ее нам.
Доун рассказывала Зальцманам, как они плыли через Атлантику, чтобы попутешествовать по Швейцарии.
— Я прежде не бывала в Европе, и всю дорогу кто-нибудь да твердил мне: «Франция несравненна, вот погодите, мы придем утром в Гавр, и вы сразу почувствуете аромат Франции. Он восхитителен». В результате я была вся в ожидании и рано утром — Сеймур был еще в постели, — узнав, что мы причаливаем, стрелой выскочила на палубу и глубоко втянула в себя воздух. И что-же? — Доун рассмеялась. — Да, верно, запах был, но это был запах лука и чеснока.
Он действительно оставался в постели, а она выбежала из каюты с Мерри, хотя теперь, слушая, можно было подумать, что она, пораженная тем, что Франция — совсем не благоухающий цветок, стояла на той палубе одна.
— Поезд в Париж. Прекрасные виды. Целые мили лесов, но все деревья стоят ровными рядами. Они так сажают леса — по линейке. Прекрасное путешествие, да, дорогой?
— Да, безусловно.
— Мы разгуливали повсюду с торчавшими из карманов длинными батонами, и они как бы заявляли: «Эй, смотрите на нас, вот как выглядит пара дикарей из Нью-Джерси». Возможно, мы и были теми американцами, над которыми всегда подсмеиваются. Но нам-то было все равно. Бродили по городу, пощипывали эти батоны, глазели на все подряд: Лувр, сад Тюильри — божественно! Жили в «Крийоне». И это было самой лучшей частью путешествия. Мне так там понравилось! А потом сели на ночной поезд — «Восточный экспресс» — и отправились в Цюрих, но проводник не разбудил нас вовремя. Ты помнишь, Сеймур?
Он помнил. Мерри спустили на платформу в одной пижамке.
— Это было ужасно. Поезд готов был тронуться. Мне пришлось схватить вещи и выбросить их в окно — знаете, у них принято пользоваться таким способом, — а сами мы выскочили полуодетые. Ведь мы спали — они нас не разбудили. Чудовищно! — и Доун весело рассмеялась, заново вспоминая эту сцену. — Представляете себе нас? Мы с Сеймуром в одном исподнем, а вокруг чемоданы. Но так или иначе, — она просто согнулась от смеха и вынуждена была сделать паузу, — так или иначе мы все же попали в Цюрих, обедали там в дивных ресторанах, где все благоухало запахом нежных круасанов и отличных паштетов — паштетные patisseries там на каждом углу. И еще много всего в этом роде. О, как это было хорошо! Газеты прикреплены к деревянным палочкам и свешиваются со специальной рамы. Снимаешь с нее газету, садишься и завтракаешь — изумительно! Оттуда мы ехали на машине, наняв ее, спустились в самый центр кантона Симменталь, а потом поехали дальше, в Люцерн, прекрасный, неописуемой красоты город, а оттуда — в Лозанну, в «Бо-Риваж». Ты помнишь «Бо-Риваж»? — спросила она мужа, все еще крепко державшего ее за руку.
Да-да, он помнил. Никогда не забывал. По странному совпадению он вспомнил «Бо-Риваж» как раз сегодня, по дороге от Централ-авеню в Олд-Римрок. Вспомнил Мерри, пьющую чай в кафе, где играет оркестр, Мерри, еще не ставшую жертвой насилия. Она, шестилетняя крошка, тогда танцевала с метрдотелем, а четверо убитых ею еще не были убиты. Мадемуазель Мерри. В их самый последний день в «Бо-Риваж» Швед спустился в ювелирный магазин, размещавшийся в вестибюле отеля, — Мерри и Доун пошли прогуляться по набережной, взглянуть в последний раз на пароходики, бороздящие Женевское озеро, на Альпы по ту его сторону — и купил Доун бриллиантовое ожерелье. Мысленно он представил ее надевающей это бриллиантовое ожерелье в дополнение к короне, хранящейся в шляпной коробке на самом верху шкафа — серебряной короне с двумя рядами искусственных бриллиантов, которой ее увенчали как «Мисс Нью-Джерси». Но поскольку она железно отказывалась надеть эту корону, даже чтобы показать ее Мерри («Нет-нет, это глупости, я ее мамочка, и этого вполне достаточно»), он так и не сумел уговорить Доун соединить эти украшения. Зная Доун так, как он знал ее, Швед понимал, что не уговорит ее надеть корону с ожерельем даже в шутку, для него одного, в их спальне. Мало в чем она проявляла такое упрямство, как в нежелании выступать в роли бывшей «Мисс Нью-Джерси». «Этот конкурс в прошлом, — отвечала она уже тогда всем, кто пытался расспрашивать ее о годе, увенчанном званием „Мисс Нью-Джерси“. — Большинство участниц конкурсов красоты готово возненавидеть всех, кто стремится напомнить об этом, и я в их числе. Единственная награда за победу на любом уровне — премия». И все-таки, заметив это ожерелье в витрине магазина в «Бо-Риваж», он представил его себе не на шее девушки, выигравшей премию, а на шее королевы красоты.