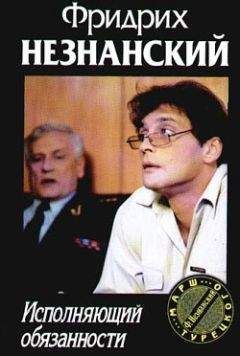Белва Плейн - Бессмертник
Подыгрывает. Тешит его гордость. Он это понимает, но вынужден поддержать игру.
— Сколько процентов? — спросил он.
— Ну, пять с половиной или шесть. Как я получаю по безналоговым облигациям.
— Но обычно процент на ссуду куда выше.
— Знаю. Но мы с тобой как-никак бабушка и внук. Я не собираюсь на тебе наживаться. Так что решено: пять с половиной! Теперь ты прикинь, сколько понадобится на хозяйство и двухкомнатную квартирку, помимо ежемесячного содержания на вас двоих. Прикинь и вышли мне почтой. Договорились? Ты меня слышишь?
— Слышу. Нана, с минуты на минуту придет Джанет, она не поверит! Я так благодарен, ты даже не представляешь…
— Остановись, не нужно. И вообще междугородные звонки — слишком дорогое удовольствие. Мне в этом месяце придет несусветный счет. Жду письма, Джимми. — Короткие гудки.
Он стоял с трубкой в руке, вытирал со щек слезы и качал головой. Несколько лишних долларов за телефон — и тысячи долларов за них с Джанет на пять долгих лет!
Грудь распирало, в ней что-то крутилось, проворачивалось тяжело, медленно, больно. Стив, Адам Харрис, Нана, Джанет, все прошлое и все будущее. Захотелось сесть и расплакаться навзрыд, по-женски, не тая слез.
Еще до стука, по шагам, он понял, что идет Джанет.
— Джимми, милый! Он все-таки уехал!
Сквозь одежду, сквозь толстую клетчатую куртку пробивались удары сердец. Во всяком случае, его собственное сердце сперва бухало как набат, а потом утишилось, умиротворилось. Стоять бы так вечно! Грудь отпустило, сами собой развязались узлы, смылись целительной, теплой волной. Он приник к Джанет, обнял ее — маленькую, на целый фут ниже самого Джимми, — словно непоколебимую опору, столп, который пребудет всегда, незыблем и вечен.
Он собирался выложить новость тотчас, но не стал. Говорить пока не хотелось. Он расстегнул ей куртку, кофточку, молнию на юбке, повел к кровати.
И услышал жаркий шепот: «Не тревожься, не печалься о брате, не печалься ни о чем. Я здесь, рядом, я буду с тобой всегда». Услышал или показалось? А потом он уже ничего не слышал и не видел, погрузившись в благодатный, точно летняя ночь, блаженный покой — по-летнему теплый и зыбкий, а потом заснул и открыл глаза уже на рассвете. Но это был не рассвет, а золотое свечение, яркое до серебристой белизны. А рассветная тишина была тихой до дрожи, до зарождающегося в ее глубинах серебристого звука.
45— Селеста, приготовьте, пожалуйста, чаю со льдом, — сказала Анна, войдя на кухню. — И подайте пирог с орехами. Я жду гостя.
Селеста обернулась:
— Батюшки, какое платье! Вот и славно. А я как раз на прошлой неделе говорила мисс Лоре, что бабушка снова на человека стала похожа.
Все эти годы после смерти Джозефа Анна не очень-то следила за своей внешностью. До первой годовщины носила траур, хотя друзья убеждали ее, что теперь это не принято и Джозеф не стал бы настаивать. Но она решила, что ей виднее. Во всяком случае, Джозеф, свято почитавший старые традиции, был бы ею доволен.
Она расправила рукав под золотым браслетом. Платье тонкое, атласное, нежно-кремового цвета. Платье для лета — быстротечного и самого любимого времени года.
— Мы с джентльменом будем пить чай на веранде, — добавила Анна. — В такую погоду жаль сидеть взаперти.
— С джентльменом? — Селеста не поверила своим ушам.
Анна улыбнулась.
— Да, со старым другом, — сказала она, оставив Селесту в полнейшем недоумении.
Ждать пришлось недолго. Машина притормозила у въезда на аллею — он, вероятно, сверял номер дома, — затем свернула, прошуршала по гравию и остановилась у крыльца. Небольшая спортивная машина, иностранная, на такой пристало ездить молодым. Он вышел из машины и замер, глядя на Анну.
— Ты совершенно не меняешься, — произнес он.
— Ты тоже не слишком изменился.
Поседел, но это красиво: загорелое лицо в мягком обрамлении серебристо-седых, по-прежнему густых волос. И глаза сияют по-прежнему, как у ребенка, — неистребимая фамильная черта.
Внезапно Анну сковала неловкость. Что она наделала? Зачем позволила ему приехать?
Они поднялись на веранду.
— Предпочитаешь солнце или тень? — спросила она едва слышно.
Он выбрал тень, они сели, и Анна совсем растерялась.
Но Пол заговорил легко, без смущения:
— Какое дивное место! И необыкновенно тебе подходит. Старый дом, старые деревья и такая тишь…
— Нам жилось тут счастливо.
— Я рад, что ты ответила на мою записку. Боялся, что не ответишь.
— Почему? Теперь нет причин таиться.
— Я очень расстроился, узнав о смерти Джозефа. Он был прекрасным человеком.
— Да.
«Прекрасный человек». Банальность, затертая банальность. Любой человек как умрет, так сразу становится «прекрасным». И все-таки из уст Пола слова прозвучали достоверно, словно обрели изначальный смысл. Да, Джозеф действительно был прекрасным человеком.
— Я тоже похоронил жену. Ты знаешь об этом?
— Нет. Очень печально. Когда это случилось?
— Почти три года назад.
— Так давно? Очень печально… — повторила Анна.
— Да. Конечно.
Он положил ногу на ногу и покачивал мыском ботинка, нового блестящего ботинка, попавшего в полосу солнечного света. Она вспомнила — какие только мелочи не застревают в памяти! — что он всегда носил прекрасные туфли. А ступня у него длинная и узкая.
Она встала:
— Пойду потороплю Селесту. Не возражаешь против чая со льдом? Или чего-нибудь посущественнее?
— Спасибо, только чаю.
Она вернулась с подносом, радуясь, что можно наливать чай, резать пирог, предлагать Полу лимон и сахар.
— Как же давно мы не виделись, Анна…
Она подняла глаза. Пол улыбался, и она улыбнулась в ответ.
— Для людей, которые знают друг друга так… много лет, мы не слишком болтливы, верно? — произнес он.
Она растерянно пожала плечами:
— Даже непонятно, с чего начать.
— Давай с Айрис. Как у нее дела?
— Айрис пятидесятилетняя, почти пожилая женщина. В это трудно поверить.
— Всей нашей с тобой жизни трудно поверить. Но — продолжай.
— Она теперь сильная, уверенная в себе. Что бы я без нее делала — не представляю. Джозеф оставил много акций, ценных бумаг, всей этой собственностью надо как-то распорядиться, но только Айрис умеет со знанием дела разговаривать с юристами и финансистами. У нее потрясающая деловая хватка. Она и сама порой удивляется. Видит Бог, в этом смысле она не в меня.
Пол снова улыбнулся.
— Дети ее выросли, — продолжала Анна. — Джимми намерен стать врачом, а…
— А как муж? — перебил Пол. — У них по-прежнему хороший, крепкий брак?
Анна кивнула. О человеческой жизни можно создавать тома, можно рассказывать, описывать ее — со всеми перипетиями, падениями и взлетами, — но к чему? Слишком много усилий, слишком мало времени. Да и смысла нет: никакими словами не оживить для него Айрис, Тео, Стива… Он их не знает.
— Неужели совсем нечего рассказать?
Она развела руками.
— Да, понимаю… Нелепо… Я прошу вдохнуть жизнь в бесплотные образы. Уместить в минуты целые годы.
— Я знаю, ты хотел бы их увидеть.
— И не увижу никогда, если…
Но Анна не дала ему договорить:
— Посмотри хотя бы фотографии. Я на днях заполнила новый альбом. Сейчас принесу.
Он склонился над альбомом. По-прежнему изящен: не располнел, не согнулся. Он, вероятно, доживет до глубокой старости, причем таким же бодрым и подтянутым. В памяти вдруг всплыла картинка: юный, почти мальчик, он взлетает по ступеням с ворохом заграничных подарков в руках. Таким она увидела его в первый раз.
— А девочка очень похожа на тебя! Прямо красавица.
— Лора — чудесный человечек, веселый, добрый. И очень чуткий.
— Мальчики тоже как на подбор. А это кто?
— Наш младший, Филипп.
«Маленький гений Джозефа», — печально добавила она про себя. Увы, до гениальности ему далеко!
— Когда мы виделись в последний раз, его и на свете не было. — Слова прозвучали скорбно, и она поспешила эту скорбь умалить: — У Айрис счастливая семья. И дети удачные. Все у них хорошо.
Стоит ли рассказывать о метаниях Стива? О грядущих экзаменах Джимми? О Лориных кавалерах? Ей, бабушке, есть о чем тревожиться, но такое уж теперь время, такая молодежь. Сложностей много, а рассказывать о них ни к чему… Что ж, тем горше.
— Бред какой-то… Смотреть на эти лица и знать, что это отчасти моя кровь, мои дети…
— Да, понимаю. — Грудь кольнуло, сжало болью. Или почудилось? Говорят, бывают такие, воображаемые боли. Психосоматические.
Он отложил альбом. «Невежливо держать Пола на улице», — сообразила она и сказала:
— Хочешь посмотреть дом?
Он кивнул. Они прошли через прохладные комнаты, через столовую, где со стены строго глядел Джозеф в строгом темном костюме, и наконец очутились в Анниной любимой гостиной. Окна глядели на юг, и гостиная была светлой в любое время года. Жизнь Анны теперь протекала именно здесь. На столиках лежали кипы журналов, на диване с желто-белой обивкой осталось вязанье — лыжный свитер для Лоры.