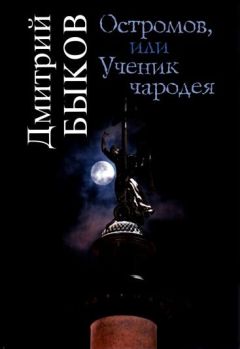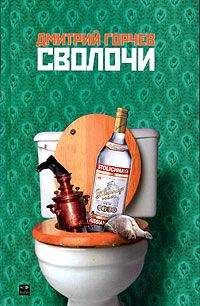Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
— Так-так-так, — уютно сказал Смирнов, человек плотный, уютный. — Дробинин Герман Владимирович, 1890 года рождения. Рассказывайте, Герман Владимирович.
— О человеческое, женское, — начал Дробинин, — в одежде приторной и тленной, ты переходишь во вселенское, но нас не нужно во вселенной. И возвращаешься, усталая, в безоболоченную жижу, но в гранях моего кристалла я тебя летающую вижу. А? Мне кажется, что здесь схвачено. Я поясню сейчас. Вообще есть такое, такая тенденция, что надо автокомментарий. Поэтическая материя настолько усложняется, что посторонний читатель не поймет, но нельзя же писать только для понимающих. Им и так хватает. И потому: возьмем исходную ситуацию. Этот четырехстопный ямб с добавочной дактилизацией отсылает нас, конечно, к известному «На железной дороге». Тоска дорожная, железная и так далее. Можно сказать, что вообще семантизация данного метра дает тему путешествия женщины с ничтожным результатом. Можно также вспомнить «Незнакомку». Сравните у Белокуровой, в «Изголовье»: я подхожу к тебе загадкою, я припадаю кошкой ловкою, но ты меня увидишь гадкою, корыстной девкою, дешевкою. Это отвратительно по качеству, но в плохих стихах даже нагляднее. Тот же мотив неудавшегося женского путешествия. Перейдем к содержательному плану: речь идет о неудавшемся выходе за пределы земного. Она, может быть, и прорвалась за пределы земного, — заметьте, что имени не называется, потому что это обобщенный опыт, касающийся метафизических попыток женщины вообще, — но Вселенная холодна, Вселенная не хочет. Женщина интересует ее лишь как женщина, а все ее духовные способности обречены. Почему «в одежде приторной и тленной»? Тленность указывает на телесность, приторность — на ее прекрасность, совершенство, но самой героине это отвратительно, она порывается в высшее, поэтому «приторной». Вы думаете, я не мог поставить «сладостной»? Вы обо мне плохо думаете.
— Почему, — сказал Смирнов, — почему сразу плохо…
— Мог! — воскликнул Дробинин. — Мог, но это было бы слово с положительным смыслом, а поэту, — он заговорил о себе в третьем лице, как все люди из низов, пробравшиеся на верхи, — поэту важно подчеркнуть негативность. Ей отвратительна собственная красота, ей хочется холодной чистоты и знания, но там, — он поднял палец, — там ничего этого не нужно. И она низринута. Но и раздавленная, усталая, она в глазах поэта летает, потому что в ее развоплощении больше смирения, больше подвига, чем было бы в случае успеха. Подчеркнем еще «безоболоченную»: слово найдено точно, ибо в нем явственно слышится «заболоченная». Это лишенное структуры и формы болото жизни, к таким словоформам прибегает на Западе модернизм. Это как если бы назвать вас «следующий», в том смысле, что вы совершаете следствие, но вместе с тем, допустим, и являетесь следующим за кем-нибудь в очереди.
— Так-так-так, — сказал Смирнов. — Это все так. Но вы, Герман Владимирович, про другое расскажите.
— Что значит — другое! — воскликнул Дробинин и даже вскочил от возмущения. — Нет, слушайте, вы обязаны слушать! Вы следователь, кому же мне еще читать! Со мной был этот, как его, молодой, его перевели. (И точно, молодой вор Грушин взмолился, чтобы его убрали от этого психического, который обчитывал его стихами, не умолкая даже ночью. В обмен он назвал подельника). Потом подселили этого ужасного, черного, который на меня вообще кидался… (Верно было и это: к нему подсадили татарина Баратова, страшной силы человека, но Дробинин был сильней, а главное — больше, кулаки у него были с баратовскую голову, он был аномально, непропорционально долговяз и кадыкаст, а если б не это — был бы демон, красавец). Слушайте теперь, кому же еще мне читать?
Дробинина некоторое время держали в камере на двоих, полагая, что он родственник Дробинину-эсеру и во всей этой компании главный человек; но теперь выяснилось, что тот Дробинин был из саратовских, а этот петербургский и никак с тем не связанный. Его можно было переводить в общую, но жаль было общую. Остановить его было нельзя. Он был, кажется, безумен. Смирнов решил рекомендовать его на экспертизу, но прервать Дробинина не мог, тот только раздухарился.
— Герман Владимирович! — прикрикнул Смирнов наконец. — Это все так, стишки и все это. Вы мне расскажите про антисоветскую деятельность Остромова, вот что мне нужно.
— Это пожалуйста! — оживился Дробинин. — Когда ты думаешь, что учишь, необожённый богослов, ты только кычешь, иль мяучишь, но ты не чувствуешь основ. Я слушаю тебя, не слыша, во мне звенят мои ключи, но вижу: над тобою крыша надулась куполом. Учи! Что я имею в виду? «Необожённый» — еще одно слово-двуглав, слово-двузнак: богослов без Бога, к тому же еще не обожженный, не готовый; основы у меня, поэта, и у меня ключи тайн, которые звенят, как ключи в лесу, в смысле, вы знаете, ручьи; но почему над ним крыша куполом? Это я и сам не до конца понимаю, но понимаю, что даже без того знания, которое он мог бы дать, в нем есть талантливость, а талантливость притягательна, даже когда кычет или мяучит, в чем, кстати, прорисовывается и «мучит»…
Смирнов поигрывал карандашом и думал о том, что дома ждет его светловолосая жена с девочкой. Он Дробинина не слушал. Но когда не слушаем — мы все-таки слышим, и многое западает в память. Вот почему, когда самого Смирнова взяли в тридцать пятом, он ко дню рождения жены написал стихи, что-то про «в разлуке» — «муки», «сижу» — «стрижу» (стрижу хотел бы уподобиться, чтобы к ней отправиться). Он подумал тогда мельком: почему этим размером? (Не знал, конечно, что трехстопным анапестом). А между тем отчетливая семантика приближения чего-то непонятного, пугающего, но, может быть, прекрасного: прозвучало над ясной рекою, прозвенело в померкшем лугу, прокатилось над рощей немою, засветилось на том берегу. Хотя, конечно, какая же надежда? Надежда может быть там, где дактиль — ТАтатам, ударили и отпустили, или амфибрахий, таТАтам, накатило, ударило и откатилось. А где татаТАМ — там все.
6— Что же, — сказал Неретинский, — он малый любопытный. Вполне милый, но, конечно, совершенная Чухлома.
Они с Гольдштейном переглянулись понимающе.
— Вообще я бы его и не трогал, — заметил Неретинский на правах любимого консультанта. Длинное, обезьянье, подвижное лицо его смеялось. Он заложил ногу на ногу, курил и смеялся. — А что такого, в самом деле, иметь свой оккультный кружок, да и пусть занимает безобидных насекомых. Ведь им надо же делать что-нибудь.
Неретинский себя к бывшим не причислял. Он был скорей будущий. Он был из той высшей, последней, совершенно переродившейся аристократии, у которой нет уже никаких обязательств перед памятью предков; он был уже то павшее в землю и умершее зерно, из которого торчит зеленый нос ростка. Он был уже тот, кто все может себе позволить.
Среди последних и распоследних было много таких. В государственную службу они не шли, в армию их бы и не взяли. В большинстве они были урнинги, хотя и двуполые, обоюдные, совершенные, не брезгующие самками из числа таких же последних и распоследних, как они, — но длительные союзы между ними были редки. Например, между Ириной и Феликсом, и то говорили, что они там расстались. Они посланы были соблазнять малых сих, а не друг друга, — с друг другом могли разве для отдохновения, как два бледных ангела, уставшие от совокуплений с животными. Обычно они лишь раскланивались в толпе, лишь обменивались усталыми всепонимающими взорами. У Неретинского была в молодости такая спутница, ныне жена министра транспорта; что-то такое было сумасшедшее в белашевской усадьбе, в тринадцатилетнем возрасте. У них, как у всех особей с опережающем развитием, это рано начиналось.
Они были тонкими и сильными, гордыми и живучими. Они сочетали несочетаемое и потому сочетались с теми, кого не вмещало сознание предков: они легко выживали в трущобах Нью-Йорка и Харбина, они спали с портовыми матросами и циркачками, они состояли консультантами в чека. Им все было интересно, как энтомологам. Из всего искусства их трогало либо самое острое, либо самое простое. Зрелый русский реализм оставлял их холодными. Их до слез поражали народные рассказы Толстого и, может быть, Лотреамон. Или нет, Лотреамон безвкусен. Лучше всего — лучше всего — что же лучше всего? Уайльд — пресный моралист, Джойс — провинциал, а вот есть несколько строчек у Флейерворта, никогда не существовавшего и потому писавшего лучше всех.
Им можно было все. Если для выживания этих необыкновенных людей нужно было сдать или попросту раздавить кого-нибудь из обыкновенных, что же, в этом нет греха, как нет греха у энтомолога перед бабочкой. Они любили всех, но опять-таки как бабочек. Друг к другу они чувствовали не любовь, но нечто бесконечно более высокое и испепеляющее. Они были равно готовы к самоубийственному подвигу и величайшей низости, потому что для них все это было равно. Так писал о них принадлежащий к их числу Нейштадт, убитый в самом начале террора. Они никогда не скучали. Они не стремились к власти. Стремиться к власти не нужно, ибо совершенному все падает в руки само. Они превосходно умели презирать, но, в отличие от демонических дурней предыдущего поколения, никогда не афишировали этого. Презрение было их воздухом, его не замечали. Не презирать кого-нибудь — вот это было чудом.