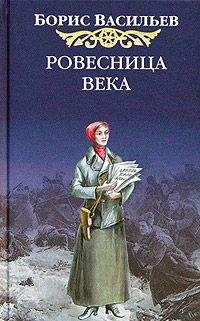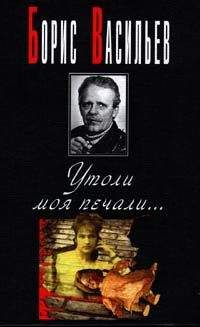Борис Васильев - Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. Утоли моя печали
«Только спокойно, – твердила она про себя. – Сначала о главном. О разумной реакции Нади на предложение руки и сердца. О первом звоночке, как выразился Беневоленский». И отловила мужа, как только услышала, что он вернулся.
– Что нового, Варенька?
Хомяков просматривал какие-то бумаги, и определил присутствие жены, вероятнее всего, по шелесту платья.
– Первый звоночек, Роман.
Это подействовало: муж оставил бумаги в покое.
– Садись и рассказывай подробно.
Варвара обстоятельно доложила, так сказать, первую часть: объяснение Вологодова и предложение им руки и сердца. Роман Трифонович довольно улыбался, потирал руки, в паузах повторяя: «Я же говорил тебе, говорил!..», не уточняя, впрочем, что он говорил и когда.
– Разумный и взвешенный ответ девицы. Она какой-либо срок обозначила?
– Нет. Но, к сожалению, не в этом дело, Роман.
– В этом, Варенька. В этом, этом. Против природы, как говорится, не попрешь. Не позволишь ли мне закурить? Я как-то очень радостно разволновался.
– Конечно, Роман, конечно.
Хомяков закурил, разогнал рукой дым, улыбнулся:
– Ты говорила с Надюшей после признания Вологодова?
– С ней пыталась поговорить Грапа.
– И что же?
– Надя сказала две фразы.
Варя повторила слова, сказанные сестрой, слово в слово и замолчала.
– «Значит, меня нет», – повторил Роман Трифонович и вздохнул. – Это либо слишком разумно, либо слишком…
– Это «слишком», ты правильно заметил, – сказала Варвара. – Викентий Корнелиевич уповает только на чудо.
Она рассказала мужу о соловецком старце, не вдаваясь в подробности. Хомяков долго молчал, попыхивая сигарой. Потом сказал:
– Ты прекрасно знаешь мое отношение к чудесам и прочей иррациональной чепухе. Но если, не дай Бог, старец в этом году помрет, а Надюша не оправится, мы истерзаем себя, что не послушались этого совета.
– Я тоже так думаю, но тебе придется пересмотреть свои планы. Я не могу не поехать с Надей в Соловки, следовательно, в Лейпциг придется ехать тебе.
– Видимо, так, – вздохнул Роман Трифонович. – Видимо, мы так и сделаем.
Ужинали втроем, поскольку Иван отправился в гости к брату. Аверьян Леонидович поддерживал застольную беседу, супруги пребывали в собственных размышлениях. После ужина Варвара сразу же ушла к себе, а Хомяков вызвал Евстафия Селиверстовича.
– Закажешь четыре билета в Архангельск для Варвары Ивановны, Надюши, Грапы и господина Вологодова. И один билет – для меня. В Лейпциг.
– На какие числа?
– Завтра уточню.
– Билеты без даты. – Зализо старательно записал все распоряжения в записную книжку. – Ваш паспорт действителен до конца текущего года.
– Я знаю. Спасибо.
Евстафий Селиверстович вышел.
– Значит, в Германию? – спросил Беневоленский.
– Да, в Лейпциг. У сыновей начинаются каникулы, а Варя поехать не сможет.
Аверьян Леонидович помолчал, поглядывая на задумчиво курившего Хомякова. Ситуация в известной мере позволяла обратиться с просьбой, но просить Беневоленский не любил и – маялся. Однако упускать такую возможность было по меньшей мере неразумно, и в конце концов, вдосталь помаявшись, он решился:
– Прошу простить, Роман Трифонович, за крайне бестактную просьбу, но положение у меня – птичье, коли уж начистоту.
– Ну, так и давайте начистоту.
– Вы не могли бы взять меня с собой, в Германию? Я вас не обременю, мне бы только за рубеж перебраться под вашим прикрытием. Документы у меня липовые, по ним я выезда не получу, да и в московской охранке лежит на меня «Дело», поскольку я когда-то был ею же и арестован. Старых друзей в Москве искать не решился, потому как здесь по инерции все еще очень бдительны, но косвенно установил, что кое-кто из них сейчас проживает в Швейцарии.
– От России не убежишь. «Из» – можно, «от» – не получается. Страна лесов, степей да перелесков, почему в ней так часто и «заблуждаются».
– Я не собираюсь бежать! – вспыхнул Беневоленский. – Я собираюсь работать ради ее блага. Извините за просьбу, коли отяжелила она вас. Говорил откровенно.
– Тогда и вопрос мой будет откровенным. – Хомяков, прищурившись, в упор смотрел на Аверьяна Леонидовича сквозь сигарный дым. – Ваши друзья – террористы?
– Нет, – сказал Беневоленский. – С террористами была связана Маша. Я исповедую иные взгляды.
– Какие же?
– Поэтапное разрушение существующего строя. На первом этапе – конституционная монархия, на втором – буржуазная республика. Без бомб, револьверов и террора, а, по-английски, путем парламентской борьбы.
– Когда говели?
– Вот это уже деловой разговор, – улыбнулся Аверьян Леонидович. – Говел, как говорится, давно и пока не собираюсь, Роман Трифонович. Не из вздорного каприза, а по той причине, что две трети священнослужителей активно трудятся на охранку.
Роман Трифонович молча пускал в потолок кольца сизого дыма. Беневоленский помолчал, сказал виновато:
– Если без говения невозможно…
– Возможно, все возможно, Аверьян Леонидович, – добродушно проворчал Хомяков. – Просто размышляю, какое прикрытие для вас выгоднее. То ли вы – коммерсант, то ли гувернер моих сыновей. Пожалуй, лучше всего – представитель моей фирмы. Справку о сем завтра же сотворим, а вы сегодня же передайте все документы Зализо. Я объясню ему, что и как он должен сделать, с вашего разрешения, с глазу на глаз.
– Благодарю, Роман Трифонович. – Беневоленский встал. – Сейчас принесу документы.
– Доброй ночи, – буркнул Хомяков и неожиданно улыбнулся. – Ох, и знатно напьемся же мы с вами, Аверьян Леонидович, когда границу пересечем!..
3
Поезда ползали медленно, то ли еще развивая силы свои, то ли уже нащупывая путь. Да и куда было спешить, если за окном по утрам возникал тот же пейзаж, в который с тоской вглядывался пассажир еще на вечерней зорьке. И ползущий по географии, вырванный из дней и семьи, из времени и житейских забот российский гражданин обязан был стать самым терпеливым существом из всего сущего на Земле, только бы не сойти с ума от бесконечного пространства за окном.
– Вам случалось ездить поездами по Европе, Надежда Ивановна?
– Случалось, Викентий Корнелиевич.
– Тогда, возможно, обратили внимание, что европеец никогда не смотрит в окно? А ведь он не лишен нормальной человеческой любознательности. Но – не смотрит. Либо ест, либо спит, либо уткнулся в книгу, но чаще – в газету или журнал.
– И при этом крайне редко заговаривает с соседом, – уточнила Варвара. – А у нас в третьих классах гомон стоит, настолько все горят желанием выговориться.
Они беседовали в вагоне-ресторане, ожидая, когда подадут заказ. Вагон катился солидно и неторопливо, никуда не торопясь. Как и официант с обедом. В полосе отчуждения никто никогда никуда не торопится.
– Европа выстроена по единому образцу. – Вологодов продолжал изо всех сил отвлекать дам от размышлений. – В Христиании и Праге цветут одни и те же каштаны, хотя, правда, и в разное время. В австрийской пивной или в английском пабе вам сразу же нальют пива, не спросив даже, хотите вы его или нет, уж коли подошли к стойке. А в греческой таверне или в парижском бистро вас непременно встретит грифельная доска с названием блюда, которое сегодня особенно удалось. Ничто так не упрощает жизнь, как общая скука. Я обратил внимание, что вы не отрываетесь от созерцания ландшафтов за окном, Надежда Ивановна.
– Да. Трудно.
– Завораживает, – сказала Варя. – Хотя каждый час видишь одно и то же.
– Завораживает само пространство. Леса да перелески, редкие поля да еще более редкие деревеньки, а глаз не оторвешь. Русские – созерцатели по натуре своей. Выйдет мужик вечером, после адских трудов своих за околицу и смотрит. На поля, на лес вдали. Смотрит на Божий мир и успокаивается. Мы, русские, счастливые люди: нам есть куда смотреть.
Тащился поезд, погромыхивая всеми своими суставами, вздрагивая на стыках, согласно раскачивая вагоны. Вздыхал паровоз, отдуваясь клубами густого, будто молочного пара, часто громыхали железные мосты над бесчисленными малыми речками и тут же, словно в ответ, начинали дребезжать оконные стекла. И пассажиры почему-то с беспокойством поглядывали на них особенно тогда, когда ночная темнота подступала вплотную к окнам.
Поезда часто останавливались. На разъездах, где терпеливо ожидали встречного состава, на полустанках, редко ссаживая пассажиров и еще реже встречая их. Но с особым усталым выдохом – на станциях. Тогда проводники, заранее оповещая путешествующих, открывали двери тамбуров, и пассажиры радостно вываливались на перрон. Третий класс, гремя чайниками, сразу же бежал за кипятком, второй и первый неспешно шли в буфет, а то и в ресторан, причем первый класс шел заметно солиднее второго.