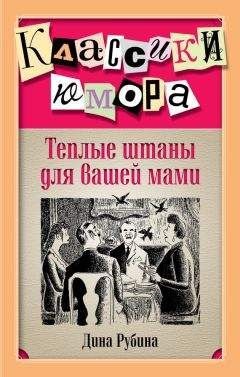Ханья Янагихара - Маленькая жизнь
– Ты все убрал, – сказал он.
– Ну да, – сказал я. – Боюсь, не так тщательно, как ты.
– Спасибо, – сказал он.
– Не за что, – ответил я. Мы помолчали. – Давай я тебе помогу переодеться, а потом ты что-нибудь съешь?
Он покачал головой:
– Не надо, спасибо. Я не голоден. И я сам справлюсь. – Он держался суховато, сдержанно: человек, которого я мельком видел, исчез, он снова был заключен в своем лабиринте, в своем дальнем погребе. Он всегда был вежлив, но защищаясь или утверждая свою независимость – вдвойне: вежлив и слегка отстранен, как антрополог в диком и опасном племени, который тщательно старается не вникать слишком глубоко в местные порядки.
Я украдкой вздохнул и отвез его в спальню; сказал, что я тут, и если буду нужен, пусть сразу зовет, и он кивнул. Я сел на полу возле закрытой двери и ждал: я слышал, как он открывает и закрывает краны, слышал его шаги, и потом долго ничего не было слышно, пока под ним не скрипнула кровать.
Когда я зашел, он уже залез под одеяло, и я присел рядом, на краешке кровати.
– Ты точно ничего не съешь? – спросил я.
– Точно, – сказал он и через мгновение посмотрел на меня. Теперь он мог приоткрыть глаза, и на фоне белья его лицо выделялось глинистым, черноземным цветом камуфляжа: тропическая зелень глаз, каштановые и золотистые пряди волос, лицо не такое синее, как утром, а цвета темной, мерцающей бронзы.
– Гарольд, пожалуйста, прости, – сказал он. – Прости, что я наорал на тебя вчера вечером, прости, что впутываю тебя во все эти проблемы. Прости, что…
– Джуд, – перебил я его, – ты не должен просить прощения. Это ты меня прости. Как бы мне хотелось как-то помочь тебе.
Он закрыл глаза, снова открыл, посмотрел в сторону.
– Мне ужасно стыдно, – тихо сказал он.
Тогда я погладил его по волосам, и он не отдернулся.
– Тебе нечего стыдиться, – сказал я. – Ты не сделал ничего плохого.
Мне хотелось плакать, но мне казалось, что он сам может заплакать, и поэтому я постарался сдержаться.
– Ты ведь это знаешь, правда? – спросил я его. – Ты знаешь, что это не твоя вина, что ты этого не заслуживаешь?
Он ничего не говорил, поэтому я не отставал, пока он не кивнул – едва заметно.
– Ты ведь знаешь, что этот тип – последняя мразь, да? – спросил я, и он отвернулся. – Ты знаешь, что ты не виноват, правда? – спросил я его. – Ты знаешь, что это ничего не говорит о тебе, о том, чего ты стоишь?
– Гарольд, – сказал он, – не надо. – И я замолчал, хотя вообще-то надо было продолжать.
Некоторое время мы оба ничего не говорили.
– Можно у тебя кое-что спросить? – сказал я, и через секунду-другую он снова кивнул. Я даже не знал, что собираюсь спрашивать, пока не услышал собственные слова, не знаю, откуда оно взялось, разве что, наверное, я всегда это знал и никогда не хотел уточнять, потому что боялся ответа: я знал, каким он будет, и не хотел его слышать.
– Ты в детстве подвергся сексуальному насилию?
Я не столько увидел, сколько почувствовал, как он напрягся и по его телу – и по моей ладони – прошла дрожь. Он по-прежнему не смотрел на меня и теперь повернулся на левый бок и положил забинтованную руку на подушку рядом.
– Господи, Гарольд, – сказал он наконец.
Я убрал руку.
– Сколько тебе было?
После паузы он глубже уткнулся лицом в подушку.
– Гарольд, – сказал он, – я ужасно устал. Мне надо поспать.
Я положил руку ему на плечо; плечо дернулось, но я не убрал ладонь. Я чувствовал, как напряглись его мышцы, чувствовал дрожь, бегущую по его телу.
– Тебе нечего стыдиться, – сказал я ему. – Ты не виноват, Джуд, ты понимаешь?
Но он притворился, что спит, хотя я по-прежнему чувствовал дрожь, чувствовал, как тревожно напряглось все его тело.
Я еще немного посидел с ним, и он был все такой же застывший. Потом я вышел и закрыл за собой дверь.
Я остался с ним до конца недели. Ты позвонил ему в тот вечер, и я подходил к телефону и врал тебе, говорил что-то дурацкое про аварию, слышал беспокойство в твоем голосе и страшно хотел рассказать правду. На следующий день ты позвонил снова, а я стоял за дверью, пока он тоже врал тебе:
– Попал в аварию. Нет. Ничего серьезного. Что? Я был у Ричарда за городом на выходных. Задремал и въехал в дерево. Не знаю, устал, наверное, заработался. Нет, из проката. Моя в мастерской. Ничего страшного. Да, все будет в порядке. Ну ты же знаешь Гарольда, он паникер. Честное слово. Клянусь. Нет, он в Риме, вернется через месяц с чем-то. Виллем, честное слово. Все хорошо. Да. Конечно. Обязательно. Обещаю. И тебе. Пока.
По большей части он был мягок и сговорчив. Ел свой суп каждое утро, принимал таблетки. Они вгоняли его в апатию. Каждое утро он работал у себя в кабинете, но к одиннадцати засыпал на кушетке. Он просыпал обед, спал весь день, я будил его только к ужину. Ты звонил ему каждый вечер. Джулия тоже звонила; я всегда пытался подслушать, но из их разговоров мне удавалось понять только, что он в основном молчал, то есть Джулия, стало быть, много говорила. Малкольм заходил несколько раз, и оба Генри Янга, и Илайджа, и Родс. Джей-Би прислал рисунок с ирисом; я не видел, чтобы он когда-нибудь раньше рисовал цветы. Он не позволял мне, как и предсказывал Энди, менять повязки на ногах и на спине, он не показывал мне спину, как бы я его ни умолял, как бы ни кричал на него. Энди он позволял это делать, и я слышал, как Энди говорит:
– Тебе надо приезжать ко мне в клинику через день, чтобы я все это менял. Я не шучу.
– Понял, – огрызнулся он.
Люсьен зашел его навестить, но он спал у себя в кабинете.
– Не буди его, – сказал Люсьен, заглянул в кабинет и произнес: – Господи боже.
Мы поговорили немного, и он рассказал, как им восхищаются на работе; слушать такое про своего ребенка не надоедает никогда – когда ему четыре года и он в детском саду лучше всех лепит фигурки из глины или когда ему сорок и в юридической фирме, набитой гарвардскими выпускниками, он лучше всех защищает коррумпированных дельцов.
– Я бы сказал, что ты должен им гордиться, но, боюсь, я слишком хорошо знаю твои политические взгляды, – с ухмылкой сказал Люсьен.
Я видел, что он очень привязан к Джуду, и испытал укол ревности, а потом – укол совести за собственную жадность.
– Нет-нет, – сказал я, – конечно я им горжусь.
Мне в тот момент стало стыдно, что столько лет я ругал его за работу в «Розен Притчард», единственном месте, где он чувствовал себя в безопасности, где жить ему было легко, куда его страхам, его неуверенности в себе не было доступа.
В следующий понедельник, накануне моего отъезда, он выглядел получше: щеки были горчичного цвета, но отек спал, и лицо снова приобрело нормальные очертания. Ему было чуть легче дышать, чуть легче разговаривать, и голос его меньше прерывался, был похож на обычный. Энди разрешил ему вдвое урезать утреннюю дозу анальгетика, и он был уже не такой вялый, хотя не то чтобы вполне ожил. Мы сыграли партию в шахматы, он выиграл.