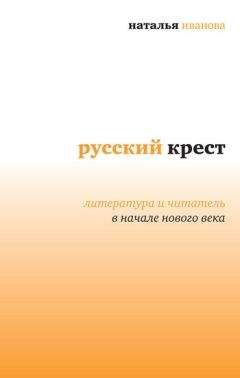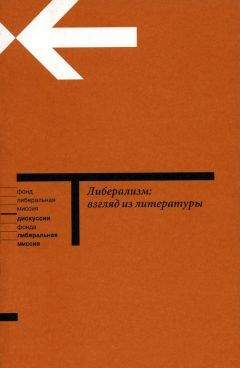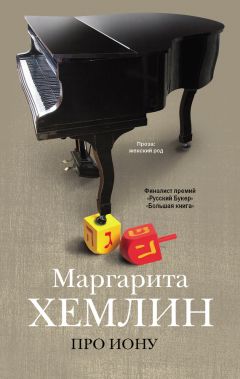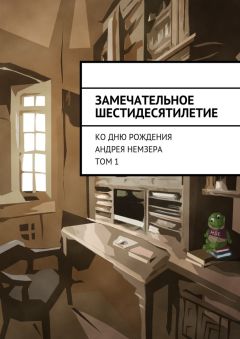Наталья Иванова - Новый Белкин (сборник)
Такой вот драгоценный техногенный наркотик ХХI века, который, впрочем, уже давно произвели на свет, опережая витаминдеров, братья Стругацкие и следующие в их кильватере фантасты.
Галлюцинации погружают героя в такой кошмар, после которого жизнь кажется великим даром и праздником. Возбужденный наркотиком, доктор испытывает приступ любви ко всем людям, включая своего возничего, и острую потребность немедленно делать добро – ехать в метель к больным, везти вакцину.
Ну а когда действие наркотика проходит и наступает похмелье – можно и кулаком в лицо заехать возничему (народу). В русской истории ХХ века, правда, было все как-то наоборот: народ все больше заезжал кулаком в лицо интеллигенции. Но за доктора Гарина не особенно обидно: узок, упрям, недалек, весь энтузиазм его – наркотический, да и бедного Перхушу погубил.
Что за Россия перед нами: общество, находящееся на пути регресса, в котором еще сохраняются отдельные предметы техногенной цивилизации? Или писатель фантазирует на тему альтернативной истории, заезженной в узком клане фантастов?
Контраст между техническим прогрессом и общественным регрессом – тема не новая для Сорокина. Этот контраст создавал комический эффект в «Дне опричника», сатире, завуалированной под антиутопию (я писала в свое время об этой повести)[37].
Еще тщательнее и виртуознее он обыгрывался в «Сахарном Кремле».
Некоторые детали из «Сахарного Кремля» перекочевали в повесть «Метель».
Там были бутылочные пробки из какой-то живородящей резины, а богатые женщины носили шубы из живородящего меха, который питался дождем и снегом и согревал хозяйку, – здесь существуют живородящий войлок и живородящий пластик. Там были живые портреты государя, здесь в доме мельника обязательный портрет Государя и его дочерей в негаснущих радужных рамках, а над шатром витаминдеров эмблема – живой, медленно моргающий глаз. Формальное сходство миров «Метели» и «Сахарного Кремля» дало некоторым рецензентам новой повести основание говорить о ней как о продолжении двух предыдущих – это делает, например, Владимир Панкратов в «Афише»[38]: «Настроение Сорокина по поводу того, что станет с Россией через полвека, в общем-то, не поменялось со времен его последних двух книг, и потому новая на них похожа».
Я же вижу больше отличий, чем сходства. В «Дне опричника» и «Сахарном Кремле» Сорокин выступил в несвойственной ему роли сатирика. Он нарисовал Россию с победившей вертикалью власти, которая уже не нуждается в декоративных инструментах демократии. Это страна деградировавшей экономики, науки, культуры. Вкрапления передовых технологий в быт лишь подчеркивают степень общественного регресса.
В «тайном приказе» следователь использует миниатюрный лазер, чтобы разгореть кочергу и пытать писателя, осмелившегося придумать крамольную сказочку про кочергу. Электрическая метла и живые картинки с меняющимся пейзажем в трактире не мешают его посетителям рассуждать о своей профессии: кнутах, розгах и публичной порке. Возможность, имеющаяся у капитана Савостьянова, вызвать с помощью «мобилы» голографический портрет Государя никак не отражается на работе его тупых мозгов, и он благоговейно слушает лживую речь правителя, велеречиво перепевающего глупости о поднявшейся с колен России, на которую за это ополчились враги внешние и внутренние.
И даже быт не облегчают умные изобретения:в домах водятся роботы, которые подносят владельцу рюмку водки и убирают одежду в платяной шкаф. Но по воскресеньям в этом же доме выключают лифт (для экономии), и жильцам предстоит ногами подниматься на самый высокий этаж, и топят русские печи дровами ради экономии драгоценного газа, как повелел Государь, а в магазинах очереди и полупустые полки. В деревне Хлюпино можно пользоваться дальноговорухой с голографическим изображением, но она не избавит ни от грязи в хлеву, ни от телят в избе, ни от вонючего сортира во дворе. Автор настойчиво высмеивает технократические надежды современной цивилизации и с мрачным сарказмом показывает, что они сочетаются с любым, самым примитивным общественным устройством.
В «Метели» отсутствует та едкая сатирическая нота, которая определяла стиль «Дня опричника» и «Сахарного Кремля».
Артефакты разных цивилизаций, языковые пласты, персонажи книг сталкиваются здесь, но никакой искры из этого столкновения не высекается. Нет даже ощущения игры, провокации, вызова, которые всегда наличествовали у Сорокина.
В отличие от миров «Дня опричника» и «Сахарного Кремля», базировавшихся на реальной почве с элементами science fi ction, мир «Метели» густо пронизывают элементы фэнтези.
Уездный доктор Гарин, сошедший с чеховских страниц, борется с эпидемией чумы, подобно тому как герои Чехова (да и он сам) боролись с эпидемией холеры. Ну, чума так чума, пусть даже и боливийская – почему бы ей не быть в книге о регрессировавшей России, если она так успешно работала в литературе, начиная с «Гильгамеша» и Библии, способствовала рождению новеллистики в раннем Ренессансе (ибо если б не чума, то на чем же подвесить сюжетный стержень «Декамерона»?), потрудилась на ниве романтизма, подарив английскому поэту Джону Вильсону мотив гордого вызова смерти в его драматической поэме «Чумной город», а Пушкину – источник для одной из лучших его «маленьких трагедий» («Пир во время чумы»), заложила основы символизма, заинтриговав Эдгара По («Король Чума», «Маска Красной смерти»), и стала знаменем экзистенциализма, разразившись в алжиро-французском городе Оране («Чума» Альбера Камю). И вакцину, которую везет доктор, почему бы не создать ученым?
Однако эпидемия чумы, от которой люди не просто умирают, а превращаются в зомби, способных прогрызать мерзлую землю и перемещаться под землей, появляясь в неожиданных местах, где они, разумеется, принимаются нападать на живых людей, началась вовсе не в Боливии и не в классической литературе, а в Голливуде. Это там возникает интерес к гаитянскому культу вуду с его магическими обрядами и верой в оживших мертвецов, ставших золотой жилой кинематографического хоррора. Начиная с фильма «Белый зомби», живые трупы принялись прогрызать дорогу из фильма в фильм, пока не добрались до Европы, Японии, России, компьютерных игр и повести Сорокина «Метель».
Можно задуматься: но ведь и наши классики оживших мертвецов не чурались. Вспомним гоголевского «Вия», вспомним пушкинского «Утопленника», где голый мертвец приходит ночью к мужику, не захотевшему предать его тело земле, вспомним «Песни западных славян», где Марко Якубович похоронил путника по-христиански, а тот приходит по ночам пить кровь его маленького сына. Когда же вскрывают свежую могилу и в ней обнаруживается не истлевший труп, то мертвец ожил «и проворно / Из могилы в лес бегом пустился». Хорошо, хоть не покусал, как в современном фильме! Чем голливудские зомби хуже фольклорных вурдалаков?