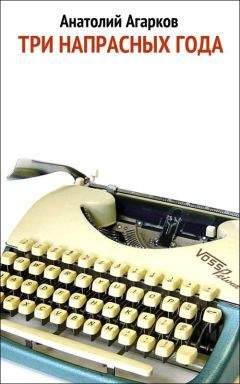Евгений Шишкин - Правда и блаженство
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Он не роптал, не жаловался на нрав природы, — он даже не боялся этого шторма и ливня. Так порешила природа-мать, прародительница всему и вся. Бог — есть создание не природы, а создание людское, для людского спасения. Люди не могут представить бога иным, нежели как в обличии человеческом. Отсюда — и богочеловек. И вера в спасение… Религия как высочайшее человеческое искусство.
Он снова истово твердил молитву:
…И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки.
Ливень прекратился к утру. Дождь — к середине дня. Шторм усилился, разгулялся. Теперь Алексея от некоторых разбитых волн не просто опрыскивали брызги, на него летели клочья пены, струи воды, вокруг шипело, пенилось, прыгала мелкая галька.
Он сидел больше двух суток на камне, клацал зубами от голода и холода, слушал нескончаемый вой и жалобы моря. Только на третий день, к утру, море погасило пыл. Выбралось солнце, обсушило горы. Только тогда Алексей покинул камень и медленно, сантиметр за сантиметром полез по тропе на гору, чтобы потом с грехом пополам спуститься на другую прибрежную полосу суши, а дальше — опять вверх, где ползком, где на карачках. До крайнего дома села к бабушке Ирме он добрался изможденный, падающий от голода и усталости.
— Живой ты, Лексей? Уж думала, если нынче не явишься, спроважу мужиков на розыск. Море-то как уркало. Говорят, давно этаких штормов не бывало.
Бабушка Ирма не видела Алексея, но слышала его дыхание, чувствовала усталость и смирение.
— Худо тебе, Лексей, давай чаю пей! Сугревайся!
Продрогший до последней косточки, израненный на горной осклизлой тропе, он тяжело отпыхивался и улыбался:
— Выжил, бабуль! С Божьей помощью.
— Ох! А как же картины-то твои, Лексей? — всплеснула руками бабушка Ирма, слепыми глазами, водянисто светлыми, с едва различимыми точками зрачков уставилась на постояльца. — Поди, все утопли?
— Утопли, бабуль. Всё в море унесло…
— Славные картины были у тебя. Жалко-то как… — заплакала старуха.
XVБереговое светопреставление крепко аукнулось Алексею. Он захворал, слег, позже выяснился диагноз — двустороннее воспаление легких. Половину зимы он провалялся в доме у бабушки Ирмы, благо денег, которые выручил за швейцарские часы в ломбарде, хватало на лекарства и оплату визитов процедурной медсестры.
В селе прознали про хворь бородатого художника-мариниста Ворончихина, промышлявшего искусством на берегу. Прознали, что все его талантливые работы и весь реквизит: краски, кисти, холсты, мольберт — смыло в море, и очень ему сочувствовали. К бабушке Ирме то и дело заглядывали сельчане, сердобольные бабы, пьющие мужики, чтобы проведать квартиранта-искусника, посочувствовать, принести гостинец. Несли липовый мед, малиновое варенье, спиртовый настой мумие, шерстяные носки, теплые кальсоны, спиннинг, сачок, конскую колбасу; в селе народ жил разношерстный: татары, русские, украинцы, балкарцы, армяне, ингуши, черкесы, даже оседлый старый цыган со своей старухой в золотых увесистых кольцах в ушах.
Однажды проведать великого больного живописца приходила делегация школы из соседнего села: учительница литературы Альбина Изотовна, которая вела школьный факультатив «Таланты», и несколько ее подопечных: две чернявых девчонки и белесый паренек из выпускных классов, интересующиеся искусством. Низенькая, активная учительница, с мелкими быстрыми чертами лица и острым носом восторженно, экзальтированно расспрашивала Алексея о том, как трудится художник, где учился: конечно же, в Строгановке? каковы планы на будущее? в каких галереях мира его полотна? И неужели кому-то могут понравиться «творения» Церетели? Приглашала в жюри, председательствовать на конкурсе школьного рисунка…
Алексей смотрел на учительницу и ее учеников с уважением, словно сам был учеником, а они — известными художниками. Он говорил мало, рассеянно улыбался, через слово благодарил посетителей за внимание к его «столь скромной персоне». Но не разочаровал делегацию: и учился в Строгановке, и картины в частных галереях Парижа и Нью-Йорка, и Церетели, безусловно, ему не пример…
— Алексей Ворончихин! — уходя, воскликнула Альбина Изотовна. — Выздоравливайте! Как удивительно! Теперь я буду знать, что вы — легендарный художник, чьи работы унесло штормом в море…
Школьники оставили ему на память свои рисунки. Тут были и рыбак в лодке, и пастух с дудочкой, и белые ледяные вершины неподступных гор в золотой дымке утра. Алексей как профессионал разглядывал рисунки, находил промахи, чувствовал себя и вправду нешуточным живописцем, — мысли клубились на эту загадочную тему…
Болезнь еще дальше сместила в прошлое московскую жизнь. Даже то, что случилось в Новороссийске, казалось кошмаром безалаберной юности. С выздоровлением Алексей ударился в чтение, запоем проглатывал всё, что подворачивалось под руку, что находил на чердаке и в чулане у бабушки Ирмы, — хватался за любой текст, даже за старые изжелтелые газеты. Позднее раздобыл в селе Библию, осилил в первом чтении Ветхий Завет… Прочитал Коран.
С приходом весны, когда солнце первым жаром окатило землю, он опять стал хаживать на свой берег, к своей скале и камню. Весна вливала физические силы, дарила вдохновение и сподвигла к изобразительным замыслам.
— Чем ты там громыхаешь, Лексей? — спрашивала бабушка Ирма, остановясь против раскрытой двери сарая, где шерудил квартирант.
— Ищу вот зубило, кернер… Долото старое. Молоток…
— Куды тебе?
— Хочу кой-чего из камня вырубить, — отвечал Алексей.
— Ты что ж, еще каменный рубщик? — изумлялась бабушка Ирма.
— Скульптор, бабуля. Зодчий, можно сказать.
— Чудной ты, Лексей. Недаром говорят: художник, ежели не пьяница, то обязательно сумасшедший.
На родном берегу моря Алексей восстановил прежний быт: построил шалаш, принес рыболовные снасти, новый котелок, старый чайник, ватное одеяло вместо утонувшего спальника. Но теперь не рыбный промысел, не миросозерцание, не услада одиночества на морском философском берегу тянули его сюда, к скале и камню, спасшему ему жизнь. Он собирался выбить на камне Истины.
Многие годы, ища гармонию с миром, Алексей Ворончихин с кем-то мысленно спорил, в том числе с собой, соглашался с общепризнанными истинами и опротестовывал их — это было поиском Бога, поиском Смысла, поиском Истины. Он искал то, чего найти применительно для всех людей невозможно, то, от чего в общем-то сам отказывался, ибо естественный человек не нуждается в Смысле, как не нуждается в Смысле дельфин, плывущий по морю, ибо естественный человек не нуждается в Боге, как не нуждается в Боге горная лань, так как сама по себе есть частица Бога, которого олицетворяет и вбирает в себя Природа, ибо естественный человек не нуждается в Истинах, как не нуждается в них орел, который кружит над побережьем; Истина — уже в его полете, в размахе его крыльев, в его бдительном взоре.
Но любой Смысл, Бог и Истина для человека тоже естественны, с их помощью человек становится не выше Природы, но открывает таинства самой Природы. Без теорий, гипотез, образов, без игры ума естественный человек пуст, скучен, примитивен ровно макака…
Сперва Алексей записывал на маленьком островке черного прибрежного песка текст Истины, долго размышлял над ним, редактировал, облегчал фразу и вместе с тем превращал ее в некую загадку, которая требовала осмысления, личностного наполнения и опыта жизни… Он не задумывался: будут ли прочтены его слова, — они будут прочтены им… В молодости Алексея смущали двойные, тройные, потаенные смыслы священных книг. Коли они трактуют Господни истины, они должны быть понятны и доступны, не путаны, не вычурны, рассуждал он. Позднее он понял, что путь к истине должен иметь загадку, сопротивление; только тот достоин постичь Истину, кто потрудится душою…
Он писал на песке:
Блаженство мира — есть блаженство в себе самом. Несовершенство самого себя и есть несовершенство мира. Истина — есть познание себя.
Фраза вышла длинной, второе предложение отчасти дублировало смысл первого. Алексей кумекал над песчаным временным текстом, сокращал слова. В конце концов он вышел на свою истину.
Истина — есть блаженство. Истина — есть познание себя.
Теперь фраза имела загадку, какую-то туманность… Все это придавало ей значимость.
На другой день он снова писал на песке. Ходил кругами. И выходило:
Религия — есть искусство. Истина — есть человек.