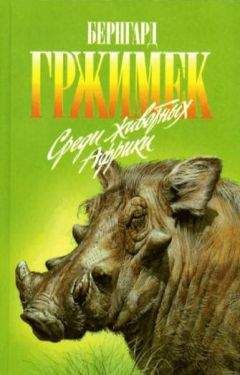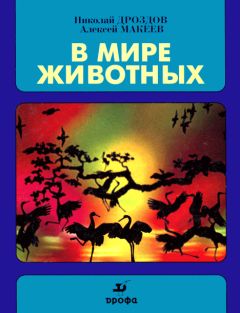Александр Проханов - Шестьсот лет после битвы
Помолились мы на образ Божьей Матери и тронулись за князем с горы. Спустились обоими полками на поле и наметом на стан ордынский! И случился тут великий туман, будто адова щель отворилась в земле и оттуда истек туман непроглядный. То все, как в полдень, видать, а то ушей у коня не видно. Мчим в темноте, в тумане — только звон кольчужный, да княжий сокольничий в рог заиграл, и которые ратники со Скоморошьей слободки, те достали свои гудки и сопели, и их стало слыхать. Так, по звуку рожка да по гуденью скоморошьих сопелей, знали, где князь. Скакали в великом тумане…
Туман отлетел разом, будто рукой отвело. И открылся стан близко. Град о семи башнях и о семи вратах. На каждой башне щит, как чаша вовне, и вся горит. И озеро — та же чаша, только огромна, и вдруг встало дыбом, и вода в нем не льется, а яко лед блистающий, яко зерцало, и мы в том зерцале отразились, на самих себя скачем! Воины, их числом до ста, встали под стенами, воздели выше голов щиты, и щиты их — те же чаши, токмо не столь великие. Из большой чаши в них льются лучи, и они те лучи щитами хватают и обращают против нас. Будто мечут стрелы, и мы слепы от этих лучей, и кони наши слепы, а повернуть невозможно!..
Первым князь возгорелся. Влетел в него луч, проязвил дыру в шлеме, прошел лоб насквозь, разметал на затылке метлу огненную, и князь, с коня сметенный, на этом хвосте сатанинском понесся, сам яко клок огня, и пал пеплом, и другие кони пепел растоптали. За ним следом инок Алепий, что от Троицы, наехал конем на луч. Пробило его огненным древком. Схватил его Алепий руками, хотел из себя выдрать, а руки его загорелись, яко две бересты, и кричал он страшно, и руки его сгорели по самые плечи, а потом и сам он в искры рассыпался. Третьим пал Васька Колодник, который за татьи дела на цепи сидел, и он князю бил челом, умолял взять на сечу. Налетел Васька-тать на острие огненное и, как был в кольчуге, стал вскипать. Глаза его белым паром вышли, изо рта красный дым валит, и кровь его из кольчуги многими ручьями брызнула и испеклась, одна ржа осталась!
Тут вижу, заворочалось колесо посреди града, и черпаками тронуло озеро, и оно стало, как солнце. И им. солнцем, повело по нашему войску, и оно загорелось, как бор в смоле. Куда ни взгляни, кони горят и воины, и под ними земля горнт, а над ними — небо. Летает кругом огонь, рвет войско, и где был всадник с конем — там пепел и дым.
Нагнал меня адов луч. Тронул коня, и конь мой стал белым пламенем, и я видел, как сгорает сердце в коне, и ржал конь страшно, а я упал и бежал, закрыв очи, настигаем лучом. И луч был, как вилы в три зуба, и искал меня, чтоб убить. Но внезапно явился ангел, схватил сильной дланью те адовы вилы и отвел от меня. А меня по воздуху перенес через полымя, опустил за гору в бору, где стояла телега, уложил и тронул коня.
И покуда я гнал коня, пробирался сквозь бор, возник в черном небе улетающий град. Вознесся на семи хвостах, как дракон. Не стало видно звезд от света, и нечем стало дышать, и, как лодка с гребцами, ушел по водам небесным. И стало мне страшно и дико, и дух покинул меня. Я упал в телегу без памяти, а когда очнулся, не лето кругом, а зима, не телега подо мною, а сани. Будто орда неведомая, улетая с земли, полгода с собой захватила…»
Раненый воин порывался встать и бежать. Старуха удерживала его, накрывала одеялом, мелко, часто крестила.
И приснился ему отец, убитый на другой войне, павший в другой сече. Будто он поднялся к отцу на небо и видит его, стоящего на небесной поляне. По всей поляне, сколько хватает глаз, горят свечи. Одни ярко, пылко, другие догорают, от третьих малая капелька света осталась. В руках у отца свеча из красного воска, перевитая серебряной лентой. Отец ходит по той поляне среди свечей, изымает те, что сгорели, ставит на их место новые, возжигает от большой, красного воска свечи.
В груди у отца глубокая рана. Лицо худое, строгое. Будто не рад появлению сына. А он, сын, весь в слезах от любви к отцу, от нежности к нему и печали, от желания кинуться, целовать его любимое, родное лицо, омыть его кровавую рану.
— Помнишь, помнишь, отец, как ты брал нас с матерью на ладью и мы возили копешки сена, и мать из баклажки поила нас молоком, и вы с ней все смеялись? Почему вы тогда смеялись?
— Тут об этом не помнят, — сказал отец, — Тут о земном не помнят. Говори: зачем пришел?
И, глядя на отцовскую рану, вспоминая истошный плач матери, когда привезли отца на телеге с другими убитыми ратниками, он спросил:
— Рана твоя не болит? Будто и меня такой же стрелою настигло.
— Ранили нас одной и той же стрелою, — ответил отец. — Летит она издали и давно. И многие прежде меня были ею убиты. И многие после тебя будут ею уязвлены. Имя стрелы — свет тьмы, и она же — стрела сокрушающая!
Он слушал отца, не понимая смысл его слов, а только их звук. И слова неясного смысла отпечатались в нем, как горячая медь на воске.
— Откуда взялась орда и что означат их град? — спрашивал он, глядя, как колеблются огоньки бессчетных свечей и гаснет то одна, то другая.
— Есть свет тьмы, и есть тьма света. И у них один ангел и один Град Семиглавый. Многие служат им и являются к вам на землю, чтобы мучить и жечь. И будут являться, покуда земля не одолеет тьму света и не станет как снег. И все, кто на ней, очистятся в свете и будут занесены в книгу света, где несть тьмы!
— Почто мы живем, отец? Почто так мучаемся? Почто избиения? Когда конец рати?
— Рать будет долгой, сто веков и еще сто веков, покуда летит стрела. И победы у вас на земле не будет, но и здесь, на небе, не будет. А место, где будет победа, сокрыто.
— Научи, отец, как жить! На что уповать?
— Загляни в мою рану. Вложи персты и раздвинь. Гляди и на то уповай.
Он вложил персты в отцовскую рану, раздвинул ее, прильнул оком. И в ране открылась чудная даль. Поля с желтой рожью, деревни с белыми храмами, синие студеные реки с темными лодками на зеркальной воде. Весь родной, любимый, дарованный богом мир. И так дивно, так сладко, такое умиление в сердце, такой свет в душе.
— Что делаешь ты, отец, на этой небесной поляне? — спросил он, любя отца, желая его обнять, робея его строгого лика.
— На каждое земное рождение возжигаю свечку. И на каждое земное успение гашу свечку.
— А моя есть свеча?
— Ступай за мной следом.
Они двинулись по поляне, перешагивая свечи, и среди многих пылающих отец указал одну, тонкую, как стебелек, с прозрачным слабым огоньком-одуванчиком.
— Твоя!.. Недолго гореть… А теперь ступай!
Погасла поляна. Исчез отец. А он проснулся под чистым солнечным пологом, и в руке его — огарок свечи.
И полог этот в доме его сердечного друга Василия, с кем взрастали рядом, в одном посаде, учились премудростям по одним рисованным книгам, не раз ходили к Троице и к обители преподобного Трифона. И Василий, душою высок и чист, во многих художествах и умениях преуспел, а более всего в творении молитв. Уйдя из мира, стал в иконах чудесные лики святых и апостолов рисовать — на дубовых досках камнем голубцом, и киноварью, и сурьмой. Теперь они сидели вдвоем в его светлой келье с окном в белый сад и вкушали мед. Пчелы из сада прилетали на мед и садились в чашу. Василий черпал бережно, чтоб не потревожить пчелу. На его столешнице, где лежали черные в кожах книги, синело малое перышко сойки.
— Монахи у Трифона рыли колодец и отрыли корабль. Деревянный, обшит медью, в двенадцать весел. Стало быть, где ныне сушь — там прежде море было. Минует время, и там опять море станет. Все кругами идет: и вода, и воздух, и жизнь царства. — Лицо у Василия спокойное, светлое. Одолением страстей достиг он премудрости. Тратит свой век на размышление и молитвы, на книги и писание досок.
— Ты, Василий, друг милый, превзошел меня в помыслах и художествах. Тебе, а не мне откроются врата истины.
— Но ты, Федор, возлюбленный друг мой, превзошел меня в ратных искусствах, в странничестве, в мирском подвиге, творимом за други своя. Тебе по исполнению дней откроются злаченые врата истины.
— Много мне удалось повидать, но мало понять. И нет того, кто бы мне открыл, разъяснил.
— Боюсь тревожить тебя расспросами. Во сне кричишь, душа твоя в муках рвется. Ступай в сад гулять. На яблонях чистый цвет. Гляди на него и духом светлей.
— Не могу по саду гулять, не могу глядеть на чистый цвет яблонь, покуда не поведаю тебе, как воевали орду. Ты выслушай и в книгу впиши. Один я остался, кто знает. Умру — и вовсе забудется.
— Говори. Все впишу до единого слова.
И начал он долгий сказ про то, как случилось.
Прискакал на соборную площадь на опаленном коне ловчий Братко. Задрал рубаху, показывал народу свой сожженный живот. И, умирая, говорил бессвязные речи про явление орды, севшей на Броды, спалившей мосты и ладьи, и села, и посады, и божьи храмы, избившей многих жен, и мужей, и монахов, и рыбаков, и ловчих. И от той орды сходит огонь и великий пал. И если ту орду не посечь, все, от старых до малых, в огне пропадут.