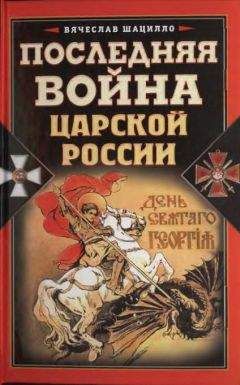Василий Белов - Год великого перелома
— Вольная публика, отойти в сторону! Вольным гражданам в сторону. Дайте дорогу, не подходить!
Как раз ударил вокзальный колокол, чей-то голос захлебнулся в рыданиях, но в другом месте сразу запричитал кто-то другой. Два конных милиционера и несколько пеших с винтовками наперевес отгоняли народ.
— Молчать! Отойти в сторону!
Крики из толпы арестованных заглушило шипением подоспевшего паровоза. Раскулаченных — это были одни мужчины — прогнали в самый конец поезда. Тоне показалось, что Павел Рогов окликнул ее и что-то сказал, но пеший конвойный с длинной винтовкой оттолкнул ее вместе с корзиной.
— Вольным гражданам в сторону! Вольные граждане отойти! — орали милиционеры.
Вагоны остановились. Тоня, забыв про Павла, побежала туда, где шевелилась куча народу. Пассажиры устремились к вагонной подножке.
* * *Привязанный к скобе, не распряженный Карько всю ночь дремал на милицейском дворе около черного хода. Он no-очереди отпускал то левую, то правую заднюю ногу. И спал, стоя на трех остальных. Комары облепили ему все места, недоступные для хвоста. Комары сосали лошадиную кровь, набухали от крови, вытаскивали свои жальца и с ленивым писком смывались подальше. Карько спал, пока не потянуло из-за угла предрассветной свежестью и пока новое уже утреннее комариное стадо не облепило ему мошонку и губы. Он сильно мотнул головой. Натянутая вожжина выдернула из милицейских дверей, видимо, не очень плотно забитую скобу. Карько стоял голодный всю ночь, ему хотелось и пить, и кататься по земле, чтобы избавиться от зуда. Когда начало всходить солнце, он услышал какое-то незнакомое ржанье. Нет, это был не голос Зацепки, это был какой-то чужой голос, но все равно это дальнее ржанье встревожило и окончательно разбудило мерина. Карько отфыркался и вместе с телегой, волоча по земле вожжи, выпростался из чужого подворья, пахнущего скипидаром и нужником. Куда было идти ему, кроме как к переезду? Бывал он на станции много раз, дорогу знал.
Поселок, вернее райцентр, спал на заре. Лишь от вокзала долетали какие-то звуки, то человеческие, то паровозные. Карько прислушивался к человеческим звукам и прижимал уши, когда гудел паровоз. Пустая телега катилась сзади. На бревенчатых мостиках через канавы телега тряслась и стучала колесами. Вожжина с железной скобой тянулась вослед. Карько подступил к деревянному настилу переезда, когда железное страшилище, окутанное паром и запахом горячего масла, было еще далеко. Но оно приближалось неотвратимо и грозно. С нездешним шипением и громом оно стремительно выросло откуда-то сбоку. Карько сделал длинный судорожный прыжок через переезд. Безумно заржал и понесся в галоп, не разбирая ни канав, ни камней… Он скакал до тех пор, пока железное чудовище гремело за ним, пока оно не обогнало его и не исчезло. Все неожиданно стихло. Измученный страшным бегом, Карько перешел сначала на рысь и вскоре на шаг. Мускулы на его груди мелко дрожали. Налившийся слезами и кровью глаз косил в сторону и назад. Телега тащилась копыльями по земле. Тележные спицы оборвало между камней, ось вылетела из них вместе с колесами, осталась далеко позади. Карько услышал теперь земляной запах дороги и запах росистой травы, которые по-настоящему его успокоили. Он встал и долго стоял, дожидаясь хозяина и мотая хвостом.
Никто не пришел к нему, никто не окликнул.
Конь отфыркался и деловито пошел по большой дороге. Он хромал на левую переднюю ногу, а с правой задней отлетела подкова. Телега скребла за ним сухую дорожную землю…
Сколько часов, сколько верст отшагал он вот так по безлюдной дороге? Сначала было раннее утро, теперь же вокруг роем гудели сенокосные оводы. Они насквозь протыкали лошадиную кожу, садились на спину, куда не достать ни хвостом, ни ногой. Они лезли в уши и ноздри. Во время скачки среди камней Карько сильно ушибся. Теперь он тоже прихрамывал, подобно его пропавшему куда-то хозяину… Конь ступал безлюдной дорогой, пока было терпенье, а когда боль от укусов стала невыносимой, свернул с дороги в густой ивовый и ольховый подрост, попер через березняк и мелкий осинник. Ветки сбили с его спины часть крылатых и яростных кровопийц, но телега цеплялась за пни и коряги. Запах раздавленных трубок дягиля, запах зверобоя и папоротника вновь успокоил мерина.
Он остановился в лесу и опять начал ждать хозяина. Он прядал ушами, ловил каждый звук. Все звуки вокруг были лесными, без признаков деревни и поля. Трещала сорока. Лесной барашек летал высоко над Карьком, издавая крылышками жалобно блеющие звуки. Поблизости в смолистых елях стучал дятел. Ветер шумел в сосновых тревожных кронах. Карько ловил ноздрями запах влажного болотного мха и запах осоки, скреб копытом. Жажда мучила хуже всего, и он вновь выбрался на дорогу.
Это был первый от станции лесной волок. Сколько будет их всех, лесных волоков, пока конь доберется до родимой Шибанихи, три или четыре? Карько не умел считать даже до трех. Зато у него имелась иная память и другое уменье. Он знал, что идет в ту, самую нужную для него сторону. Знал, как и где он встретится с прохладным и синим речным плесом. И он шел и шел по большой дороге, хромая подобно своему ездовому, который исчез неизвестно куда…
В поле оводы вновь налетели кровожадным облаком. У отвода первой деревни Карько долго и терпеливо ждал, чтобы открыли, но никого не дождался. Выведенный из себя жаждой, жарой, укусами оводов, он грудью надавил на полевые ворота, и они распахнулись.
Народ весь был на покосах. Одни мелкие ребятишки увидели подводу без колес. Второй отвод от толчка не раскрылся. Карько свернул в сторону. Он грудью раздавил изгородь и вновь оказался в зеленом поле.
На втором волоку дорогу пересекала какая-то малая речка. Минуя мосток, мерин зашел в нее прямо с топкого места. Брюхо его коснулось отрадной лесной прохлады, мягкие лошадиные губы начали шевелиться, первые большие глотки яблоками покатились по лошадиному горлу.
Карько пил долго, неторопливо. Вот он кончил пить, перешел на другой берег, жадно сорвал волоть зеленой травы и вышел опять на дорогу. Она уводила его все дальше и дальше от страшных видений…
В этом лесу уже все было похожим на шибановские проселки: и кипрей на обочинах, и обсохшая колея, и древесная поперечная стлань, и березовый шум на горках, и канавы, пахнущие земляникой. Но почему никого нет позади, никто не бодрит и не понукает, не шевелит вожжами, не поет и не говорит ничего?
Мерин остановился и начал жадно рвать и поглощать пучки придорожной травы. Он переступил канаву и насыщался долго, тщательно, пока не почуял прилив новых сил и позывов к движению.