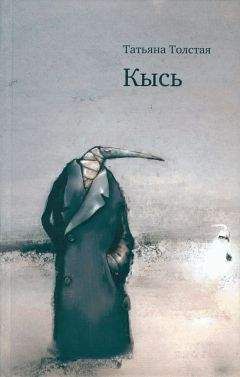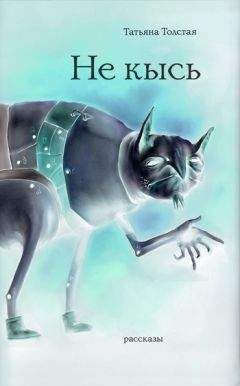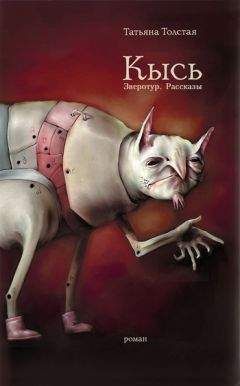Татьяна Толстая - Не кысь
Время идет, но не движется, или же, наоборот; меняются даты, но не меняется Шарлотта, она все та же. И несмотря на то, что мы все время узнаем все новые подробности ее прежней, вполне бурной жизни, но с того мгновения, как она появляется на своем балконе в начале романа, она не живет, она застыла, она мало чем отличается от потускневших красавиц из старой газеты. Как автомат, она годами штопает кружево блузки, читает французские стихи, пересказывает то, чему и сама не была свидетелем: приезд, например, Николая Второго с женой в Париж в 1896 году… Она не живет, но и не стареет: «если она все еще так прекрасна, несмотря на седые волосы и столько прожитых лет, – думает герой, – то это потому, что сквозь ее глаза, лицо, тело просвечивают все эти мгновения света и красоты…» Не верю! – кричит вслед за Станиславским читатель, но верить его никто и не просит: Шарлотты не существует в том простом смысле, в каком существовала бы обычная старящаяся женщина, пусть и француженка. Шарлотта – как и все в этом романе – есть сон и миф, символ и инструмент для самогипноза, подобно блестящему шарику, которым пользуются врачи-гипнотисты для погружения пациента в лечебную дремоту. Шарлотта, вначале представшая перед нами – и героем – воплощением Франции, постепенно, к концу романа, почти незаметно – и в то же время неуклонно – превращается в воплощение России.
Собственно, ее двухприродность, двузначность заявлены с самого начала. В ее «сибирском» сундуке – французские газеты. Попав во Францию, она стремится в Россию (как и ее мать), а попав в Россию – стремится во Францию, но не может выбраться. Ее судьба – судьба России: Европа и Азия в одном лице, ни то ни се, и то, и другое; изнасилованная, но не убитая, давшая жизнь двум детям – азиату и европейке, она все приемлет и ко всему достаточно равнодушна; самое большое волнение, которое она может испытать, – это «затуманиться светлыми слезами». И деревенская молочница, и пьяный инвалид, гроза двора, тянутся к ней, стихают, смиряются в ее присутствии, – «не верю» – опять-таки протестует читатель, и опять-таки: и не надо верить. Символ и миф не обязаны вести себя с какой-либо долей реализма. Шарлотта проживает символическую жизнь, ходит по символическим мукам, пребывает на символическом балконе, нависшем над воображаемой линией, разделяющей обитаемое и необитаемое пространство, мужчины в ее жизни – символичны: француз-любовник, муж – русский, насильник-азиат (да, скифы мы). Если угодно, тут есть и отсылка к гончаровской «бабушке» («Обрыв») – бабушка-Россия, все понимающая, всех примиряющая. Здесь и мотив России как матери и мачехи одновременно (она одновременно и притягивает, и отталкивает, герой думает, что она ему родная бабушка, но она «приемная») – мотив, вообще свойственный русской литературе, не только послереволюционной. Она – воплощение Вечной Женственности, и женского начала, свойственного, как полагают многие, «русской душе», и более того, она – «монахиня» и «блудница» в одном лице.
В романе есть две сцены, равно впечатляющие и перекликающиеся сходными образами. В одной из них герой-подросток подглядывает за тем, как на старом, полузатонувшем катере совокупляются проститутка и солдат. Катер «пострадал от пожара» (головешки после «дыма отечества»!). В один иллюминатор он видит «женский зад белоснежной, монументальной наготы. Да, бедра коленопреклоненной женщины, тоже в профиль, ляжки, ягодицы, испугавшие меня своей огромностью, и начало талии, срезанной линией обзора». В другой – равнодушное и сонное лицо женщины, облокотившейся «на что-то вроде скатерти» и рассеянно разглядывающей свои пальцы… «Телесный низ» женщины существует словно бы отдельно от равнодушного «телесного верха» и не связан с ним, и в то же время составляет одно.
В другой сцене Шарлотта рассказывает внуку, как она зашла в избу, чтобы отнести лекарство старушке, и – «тут-то бабушка и увидела ее» – молодую женщину с ребенком на руках. «Молодая женщина с ребенком на руках стояла у окна, сплошь затканного морозными узорами». И опять, заметим, «запах горящих дров витал среди темных стен и смешивался с запахом мороза» – дым отечества! «И знаешь, это была, конечно, иллюзия… Но у нее было такое бледное, такое тонкое лицо… Точно те ледяные цветы на оконном стекле. Да, как будто ее черты проступили из морозного узора. Я никогда не видела красоты столь хрупкой. Словно икона, писанная на льду…»
«Французский привой, который я считал атрофировавшимся, все еще был во мне и мешал мне видеть, – говорит герой романа. – Он расчленял реальность надвое. Как тело той женщины, за которой я подглядывал в два иллюминатора: была женщина в белой блузке, спокойная и очень обыкновенная, и была другая – огромный круп, своей плотской мощью делающий почти ненужным остальное тело.
И тем не менее я знал, что две женщины – на самом деле всего одна. В точности как разорванная реальность. Французская иллюзия мутила мне зрение, подобно тому, как опьянение удваивает мир обманчиво живым миражом…»
В обеих сценах есть женщина (там блудница, там святая), есть окно (иллюминатор), есть «иллюзия», есть и «дым» – мертвое пожарище полусгоревшего катера или живой запах горящих дров. Вот набор ключевых образов. Что дальше? Что с этим делать? «Что хотел автор сказать своим произведением?» А дальше автор – в который уже раз, следуя логике, не вполне разделяемой читателем (да хотя бы мной), но очень для него органичной, делает следующий вывод:
«Я видел замерзшее окно, искристую голубизну изморози, молодую женщину с ребенком. Шарлотта рассказывала по-французски. Французский язык проник в эту избу, которая всегда пугала меня своей темной жизнью, весомой и очень русской. И вот в ее глубинах осветилось окно. Шарлотта говорила по-французски. А могла бы и по-русски. Это ничего не отняло бы у воссозданного мгновения. Значит, существует что-то вроде языка-посредника. Универсальный язык! Я снова вспомнил о том „межъязычье“, которое открыл благодаря оговорке, о „языке удивления“…»
Тогда-то впервые мой ум пронизала мысль: «А что, если на этом языке можно писать?»
Вот этот пассаж (уже на склоне романа к концу) ставит меня, достаточно внимательного читателя, а некоторым образом и писателя, в полнейший тупик. Я НЕ ПОНИМАЮ, о чем говорит автор. Я не понимаю, что такое универсальный язык, язык-посредник, я не понимаю, как можно писать ВНЕ языка. Я знаю, как можно писать НА языке, языком, ВНУТРИ языка; знаю, как он – язык – сопротивляется нашим усилиям и в то же время помогает, неожиданно и услужливо предлагая нужные средства; знаю, как он хочет жить сам по себе, ловко уворачиваясь от насилия над собой, как он – к удивлению пишущего – вдруг становится хозяином, а не слугой, ведет тебя не туда, куда ты намеревался прийти; какие ловушки расставляет и какие восхитительные мостики над пропастью смысла выстраивает; знаю, как можно с его помощью – и при благосклонности муз – поймать провербиальных мух в провербиальные же янтари; понимаю, как можно долго, кропотливо строить копию, макет, цирковую иллюзию действительности – и построить нечто, никакого отношения к действительности не имеющее; но каким образом можно писать на несуществующем, универсальном языке-посреднике, я понять не могу.