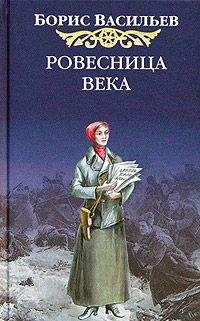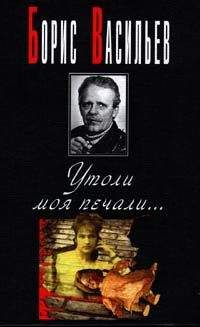Борис Васильев - Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. Утоли моя печали
Наденька медленно закрыла глаза. И молчала. Аверьян Леонидович вытер внезапно выступивший на лбу пот, беспомощно оглянулся на горничную.
– Все слышала… – беззвучно шепнула Грапа. Прошло не менее пяти тягостно бесконечных минут, прежде чем Надя открыла глаза.
– Почему индеец его пожалел?
– Потому что обладал великим, вселенским чувством долга. И такое чувство долга существует, Наденька. Да, не всем дано им обладать, но всем надо к этому стремиться. Когда большинство поймет, что любая человеческая жизнь бесценна, на Земле воцарится рай. Люди станут беречь друг друга, исчезнут вендетты, мщение, прекратятся все войны, и люди наконец-таки обретут счастье.
– Человек не нужен человечеству.
– Да, но человечеству нужен человек, Наденька. Просто необходим, оно погибнет без него.
– Вы рассказали красивую легенду. Всего лишь легенду.
– Отнюдь, Наденька. Записавший эту быль конкистадор был так потрясен увиденным, что вернулся в Испанию, постригся в монахи и стал писать правду о конкисте.
– И был сожжен на костре в Толедо как еретик, – неожиданно громко и ясно произнесла Надя.
– Вы… Вы знали эту легенду? – изумился Беневоленский.
– Нет. Но я знаю, что было именно так, потому что правда никому не нужна. Жестокость, ложь и хищная, звериная, ненасытная жадность – вот три кита, на которых стоит мир. И стоять будет, пока сам себя не растопчет.
Всю эту тираду Наденька выпалила на одном дыхании. А выпалив, обессилено откинулась и закрыла глаза.
– Уходите, Аверьян Леонидович, уходите, – решительно зашептала Г рапа.
– Не надо, – не открывая глаз, тихо сказала Надя.
И наступило молчание.
– Маша тоже хотела растоптать, но – не смогла, – по-прежнему не открывая глаз, сказала Наденька. – А Ваня Каляев сможет. Он – сможет, удержите его.
– Я не знаю, кто такой господин Каляев, но Маша обладала тем самым вселенским запасом долга…
– Удержите его…
Надя произнесла эти два слова еле слышно, с огромным напряжением и с огромной мольбой. Грапа тут же молча обхватила Аверьяна Леонидовича за плечи и весьма бесцеремонно вытолкала его за дверь.
4
– Ну, что Наденька? – спросила Варя, едва Беневоленский вошел в столовую.
Все почему-то продолжали сидеть за накрытым столом, хотя традиционный поминальный обед уже закончился. И Евстафий Селиверстович то и дело многозначительно заглядывал в дверь, не решаясь, однако, в такой день беспокоить господ.
– Кто такой Каляев?
– Каляев? – переспросил Роман Трифонович. – Надюша вспомнила о Ване Каляеве?
– Кажется, он был в нее влюблен, – сказала Варя. – Естественно, она могла заговорить о нем.
– Надя почему-то связала его с Машей и дважды просила удержать. От чего нужно удерживать этого господина?
Все молчали. Хомяков невесело усмехнулся:
– Полагаю, от мщения.
– От мщения? – настороженно переспросил Василий. – Это серьезно? Кому же он намеревается мстить, Роман?
– Он – максималист. А цель максималиста – все или ничего. Иного ему просто не дано.
– Ваня Каляев – всего-навсего влюбленный гимназист, – мягко улыбнулась Варя.
– Это он сегодня – влюбленный гимназист, – сказал Николай. – Но любой влюбленный гимназист может завтра стать ненавидящим террористом.
– Ну, уж это слишком, – усомнился Иван. – Терроризм всегда – идейное деяние. В отличие, скажем, от бандитизма. Ты согласен с этим, Вася?
– Не совсем, – помолчав, сказал Василий. – Великий грех всегда требует внутреннего оправдания, и если под идеей террора подразумевать просто попытку самооправдания, то в этом ты, Ваня, прав. Но это всего-навсего подмена одного понятия другим. Оправдание средства даже самой высокой целью не может быть названо идеей ни при каких обстоятельствах.
– Что же в таком случае ты понимаешь под идеей?
– Ненасильственное служение людям во имя блага их.
– Это уж слишком… по-христиански, – проворчал Хомяков, посасывая незажженную сигару.
– А что выдумало человечество за все время своего существования гуманнее христианства, Роман? Утопию Томмазо Кампанеллы? Сен-Симона? Социальную гармонию Фурье? Или, может быть, новомодного Маркса с его призывами к непримиримой классовой борьбе во имя перераспределения материальных благ? Что, позвольте спросить? Нет, вы не сможете ответить на этот вопрос, не упомянув при этом о насилии хотя бы и в скрытой форме.
– Любовь, – округлив глаза, вдруг сказала Анна Михайловна. – Любовь, господа. И не надо ничего выдумывать.
– Мы с тобою влюблены: ты – в хозяйку, я – в блины, – с усмешкой сказал Роман Трифонович.
Все заулыбались, утратив внутреннюю напряженность. А Иван наклонился к капитану, шепнул на ухо:
– Коля, жена у тебя – чудо! Счастливчик ты наш…
– Да?.. – растерянно спросил Николай, уже изготовившийся ляпнуть своей Анне Михайловне что-то очень сердитое.
– Вы абсолютно правы, дорогая Анна Михайловна, – сказал Василий, тепло улыбнувшись. – Возлюби ближнего своего – основной тезис христианства.
Все заговорили о христианстве, о множественном толковании самого глагола «любить» в русском языке, о… Только Беневоленский хмуро молчал и, кажется, даже не слышал этого весьма оживленного разговора. Но так только казалось.
– Попробуйте поговорить с Надей, Василий Иванович, – неожиданно сказал он.
Василий вздрогнул, почти с испугом глянул на Аверьяна Леонидовича и отрицательно покачал головой.
– Недостоин я. Одну душу спасти труднее, чем все человечество разом. Вот что я открыл горьким опытом своим. Очень горьким, потому что выяснил… Ничтожность свою выяснил.
– Что ты выяснил? – с недоверчивой улыбкой спросил Николай.
Василий встал, склонив голову и строго глядя в стол. Помолчав, сказал негромко:
– Извините, господа. Позвольте мне помолиться. Наедине с Господом побыть.
И быстро вышел.
– Ну, дела… – растерянно протянул Хомяков.
Все молчали, ощущая неуютность и почему-то тревогу. Безадресную внутреннюю тревогу.
– Позвольте мне Наденьку навестить, – внезапно сказала Анна Михайловна, покраснев чуть ли не до слез. – Пожалуйста, позвольте. Меня маменька моя научила, как с детьми разговаривать. И, право слово, я научилась.
И пошла к дверям, не ожидая никаких разрешений.
5
Наденька по-прежнему неподвижно лежала в кровати. Грапа изредка осторожно пыталась заговаривать с нею, но Надя либо молчала, либо отделывалась короткими ответами, ясно давая понять, что не желает никакого разговора. Горничная тут же замолкала, тихонько вздыхая, а выждав время, вновь упорно продолжала безуспешные попытки расшевелить свою барышню.
Надя не сердилась на нее, чувствуя ее искреннюю озабоченность и тревогу. Но именно сейчас ей было не до бесед, пусть даже и очень коротких. Она думала, и поводом к ее совсем невеселым думам послужило посещение Беневоленского. Оно заставило ее вспомнить все прежние попытки врачей, Вари, Василия завязать с ней беседу, потому что, говоря о разном, каждый – свое, они, по сути, сходились в одном: во что бы то ни стало хотели заставить ее слушать себя, навязывали ей – пусть неосознанно, мягко, из самых лучших побуждений – свое понимание, свои мысли, свои чувства. Свои, а не ее! И Аверьян Леонидович с самыми наилучшими пожеланиями тоже говорил только о своем, искренне полагая, что это его «свое» сейчас необходимо ей. Необходимо, как лекарство, как спасение, необходимо, что называется, прямо позарез. И всем, всем без исключения казалось, что их примеры, намеки, иносказания, аллегории и есть единственная панацея, столь необходимая ей во спасение ее самой.
«Они хотели, чтобы я их слушала, – с горечью думала она. – И никто, ни один человек, не пожелал выслушать меня. Ни один, даже – Варя… Все спешили высказаться, едва переступив порог. Зачем? Почему?.. Почему они приходили с одним-единственным упорным желанием заставить меня слушать их заранее сочиненные рассказы?.. Да просто потому, что все они считают меня тяжело больной. Все!.. Все, как один, будто сговорившись, протягивают мне одну и ту же ложку с приторным лекарством и насильно заставляют меня это лекарство глотать. Пей, Наденька, пей, это тебе полезно… И никто так и не вспомнил о Феничке, побоялся вспомнить, словно и не было ее на свете. А ведь они знали и любили ее. И, конечно же, помнят, но – молчат. Молчат, чтобы уберечь меня. Значит, я для всех – тяжело больной человек. Неизлечимо, навсегда больной…»
– Всем нельзя, а мне можно!
Голос раздался у дверей, и Надя открыла глаза. И увидела Анну Михайловну, входившую в спальню, решительно тесня Грапу.
«О, Господи!.. – с усталым отчаянием подумала она. – Ее еще не хватало…»