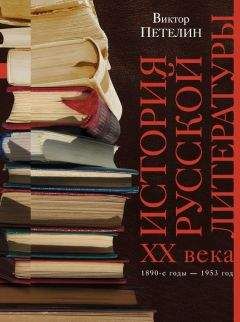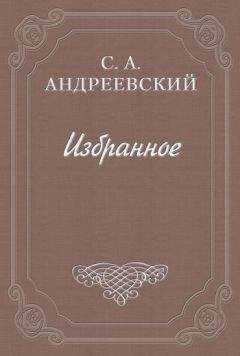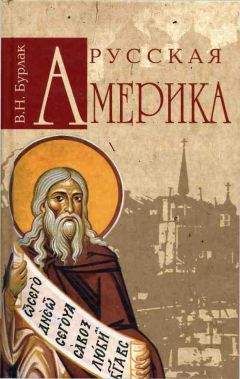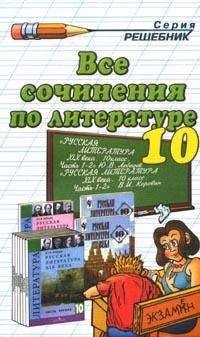Пять времен года - Иегошуа Авраам Бен
Он проводил их к двери, ночь тем временем совершенно прояснилась, и теперь мягкий белесый свет заливал все вокруг, как будто кто-то все время усиливал накал луны. Какая-то торжественная и праздничная красота заполнила мир. Молхо было трудно расстаться с гостями, они уходили, нарядные и веселые, в вечернюю темноту, а он оставался в одиночестве. Ему было досадно, что они жалеют его, и в то же время он боялся, что его неприкаянность им в тягость, и он вдруг, не задумываясь, заговорил об анонимном телефонном звонке. «Видите, меня уже пытаются сосватать», — закончил он с грустной улыбкой. Но они не улыбнулись ему в ответ, а жена врача даже ужаснулась: «Как это возможно? Кто посмел? Это же омерзительно!» А муж ее промолчал, с интересом разглядывая Молхо. «Еще и тридцать дней траура не прошли! — продолжала возмущаться женщина. — Это просто ужасно!» Он был уже не рад, что рассказал им эту историю, они могут, чего доброго, решить, что это он сам, тайком, инициировал злополучный разговор по телефону. Весь его преданный уход за женой в течение стольких лет был словно стерт единым махом, и теперь эта пылающая праведным гневом женщина смотрела на него с таким недоверием, как будто он собственноручно убил свою жену.
Ночь становилась все светлее и холоднее, и он спал беспокойно, ворочаясь с боку на бок, и каждые два часа просыпался, готовый что-то подогреть, сделать укол, поставить капельницу, подать таблетки или даже просто чашку чаю, успокоить и поговорить, но вместо этого только шел в туалет и возвращался, чтобы снова нырнуть в постель, замечая, что лунный свет тем временем все больше надвигается на его кровать и распластывается на ней, а над горизонтом поднимаются все новые ясные и холодные звезды. Ближе к полуночи он повернул кровать к окну, чтобы наблюдать за этим поразительным зрелищем. Дети еще не вернулись, и он решил дождаться их. Первой появилась дочь, Анат, и он немного поговорил с ней, но она пошла спать, а потом вернулся младший, и он поговорил с ним тоже, пока тот не закрылся в своей комнате, а луна тем временем скрылась за срезом ущелья, и он вернулся к себе и заснул по-настоящему, так что, проснувшись, обнаружил, что за окном уже сверкает яркий солнечный день, и решил вдруг посвятить субботу своей машине, которую не мыл вот уже два месяца. Он долго пылесосил, натирал и полировал ее, попутно беседуя с соседом, который мыл рядом свою машину. Было ярко и светло, холодный воздух бодрил, и он вдруг почувствовал себя совершенно-счастливым, припомнив, как ему вчера послали явный знак внимания, знак, что есть кто-то, кто думает о нем и строит планы для него, и не то чтобы он, упаси Бог, нуждался в помощи, он сам справится со всем, он был в этом уверен, но совсем неплохо, если ему тем временем подадут идею, укажут направление, согреют и возродят его утраченную веру в возможность нового чувства.
Увидев, сколько грязи налипло на него от возни с машиной, он решил воспользоваться случаем и спуститься в ущелье. Он уже давно хотел это сделать и теперь действительно спустился шагов на сто, пока не встал на большую, гладкую скалу и заглянул в перевитый ветвями сумрак, где на кустах и деревьях дрожал какой-то молочный свет, — как будто луна, спустившаяся туда ночью, все еще продолжала медленно растворяться где-то там, в глубине. Он решил не спускаться дальше, вернулся домой и начал энергично собирать вещи для большой стирки, потом разбудил детей и вытащил из-под них простыни, а заодно слегка навел порядок в кухне — помыл посуду и попытался соблазнить поднявшееся семейство приготовлением общего обеда: если им так не по вкусу то, что готовит домработница, почему бы не попробовать самим сделать что-нибудь другое? Но дети не откликнулись на его призыв, дочь затеяла бесконечный разговор по телефону, младший сын занялся починкой своего велосипеда, и Молхо позвонил сыну-студенту, чтобы пригласить и его на общий обед, — тот попытался вначале увильнуть от приглашения, но, услышав разочарование в голосе отца, согласился прийти и действительно появился к полудню, и в конце концов еда оказалась вкусной и свежей, и они посидели вчетвером, чувствуя свою душевную близость, болтали ни о чем, изучали календарь, чтобы решить, в котором часу им удобней поехать на могилу в тридцатый день после похорон, и мало-помалу дети заговорили о покойной матери и говорили о ней, как никогда не говорили раньше, и даже младший сын, который вначале молчал, тоже сказал что-то, и слезы навернулись ему на глаза, и Молхо был счастлив оттого, что вот наконец мальчик немного всплакнул. Старший брат и сестра тоже были рады этому, и Молхо подумал про себя, что это конец определенного периода их жизни, и на мгновенье ощутил в себе прилив новых сил.
Потом, однако, он почувствовал усталость, сказал им: «Посуду помойте сами, остальное я все уже сделал», — и, отправившись в спальню, тщательно закрыл жалюзи и лег, обложившись пятничными газетами, в надежде их просмотреть, но тут же заснул. Спал он недолго, но глубоко, а когда проснулся, в доме стояла тишина, а за окном серели ранние мутные сумерки, давая понять, насколько укоротился день за последнее время. Обеденный стол и кухня пребывали в том же виде, в каком он их покинул, повсюду стояла грязная посуда, студент сидел в гостиной и читал, дочь что-то вышивала в своей комнате, а младший сын был погружен в приготовление уроков, и Молхо походил по комнатам, ворча: «Что же вы оставили посуду, я ведь только об этом вас и просил!» — но они лишь приподняли на минуту головы, молча посмотрели на отца, как на привидение, и Молхо вдруг вспомнил, как семь лет назад, точно в такое вот послеполуденное время, только в начале весны, они с женой пошли к врачу, и тот неожиданно дал им срочное направление в больницу на операцию и биопсию, и как эта страшная правда уже засела в их сознании, когда они вышли из кабинета врача и ощутили свежую приятность весеннего воздуха, так не похожую на тот жуткий страх, который камнем лежал внутри него — не столько страх перед болезнью, сколько перед женой, перед ее страхом и ее отчаянием, и он тут же начал торопливо говорить; она шла рядом молча, а он пытался убеждать ее логикой, анализировал все возможности, поворачивая каждое слово и фразу врача так и эдак, словно вдумывался в какой-то священный текст, старался извлечь из них утешительные выводы, а она шла рядом, слушала и молчала, посеревшая, потрясенная, а он все говорил и говорил: «Ведь даже если скажут, что нужно удалить грудь, и если этим все кончится, то ничего в этом страшного, ты ведь не манекенщица какая-нибудь, тебя это не испортит, а мне не нужны обе, я буду любить двойной любовью ту, что останется…» — и продолжал шутить, сам не понимая, откуда у него эти грубые шуточки, а она шла рядом, не поворачивая головы, слушая вполуха, отсутствующим взглядом следя за густым потоком машин, которые медленно ползли вверх, на Кармель, а когда они добрались до дома (это была еще их прежняя квартира), вошли в подъезд и уже подходили к лестнице и он торопливо шарил в почтовом ящике, она посмотрела на него с гневом и вдруг прервала свое долгое молчание и в окружавшем их теплом сумраке подъезда произнесла: «Запомни — в любом случае я хочу умереть дома, ни в каком другом месте…» — и он начал глупо, неестественно улыбаться, а внутри у него все задрожало, и он почувствовал, что вот, она уже выпустила свой первый залп, и начал жалко бормотать, что вовсе незачем сразу же говорить о смерти, но она повернула к нему окаменевшее в отчаянии лицо и сказала: «Пообещай мне, что ты не будешь считать деньги и заплатишь все, что понадобится, лишь бы я могла умереть дома!» И он опять извивался и путался в словах, но она как-то жутко глянула на него, и он поспешно сказал: «Я обещаю, я обещаю! А как же!» И это обещание он повторял с тех пор тысячу раз — до тех пор, пока она действительно умерла. А тогда она решительно поднялась по лестнице, подождала, пока он открыл дверь, и вошла, в доме было сумеречно, дети — все трое тогда еще школьники, — еще ничего не зная, но уже все почувствовав, как-то необычно присмирели и тихо собрались в одной комнате готовить свои уроки.