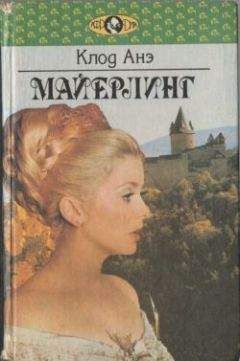Прощайте, призраки - Терранова Надя
Разумеется, при поверхностном взгляде Мессинский пролив — всего лишь ровный прямоугольник.
Мимо проехал трамвай — относительное новшество для моего родного города. Двадцать с лишним лет назад рельсов не было, и я много-много раз бегала тут по дорожке, одетая в спортивный костюм, с заплетенными в косу волосами. Меня не покидало тревожное стремление двигаться и потеть, типичное для худых подростков. Еще раньше, в детстве, я каталась по этому тротуару туда-сюда — с того дня, как папа подарил мне роликовые коньки, до того дня, когда я упала, пока он отвлекся на одну из своих мыслей, как нередко случалось в течение года, предшествовавшего его исчезновению. Споткнувшись, я ободрала колено, локоть и подбородок, разбила верхнюю губу. Отец встал со скамейки, вырванный из апатии, в которой проводил дни напролет, и сказал: «Ох, дочка, пойдем-ка домой, что мы здесь делаем, это не для нас». Я переобулась, закинула коньки через плечо и поплелась вслед за отцом. Машины ехали нам навстречу, он не оборачивался, не брал меня за руку, ни от чего не предостерегал. Мне хотелось вразумить отца, попросить, чтобы он держался ближе к обочине, но не могла сказать вслух ни слова и, как заведенная, повторяла про себя: «Только бы он не умер». Должно быть, сила моей мысли оказалась так велика, что вскоре боги покарали меня, исполнив мое желание: папа не умер и никогда не умрет.
Больше мы не бывали на пасседжатаммаре, ибо отец обнаружил, что сосредоточение внимания на чем-то другом помимо собственных душевных невзгод стало роскошью, которую он уже не мог себе позволить. Утром папа делал вид, будто открывает глаза, но толком ни на что не смотрел, мама приносила поднос с чашкой кофе и тарелкой кунжутного печенья, ставила его возле кровати и отправлялась на прогулку вдоль моря, а затем в музей, я убегала в школу, крикнув с порога «Пока!». Чем занимался отец, пока нас с матерью не было дома, оставалось только догадываться.
Все в этом городе сохранилось неизменным исключительно в моей голове, да еще, пожалуй, в родительском доме; у памяти крепкая обувь и непревзойденное терпение. Я решила уйти подальше от моря и двинулась к центру города. Окна на втором и третьем этажах зданий по виа Санта-Катерина-дей-Боттегай были закрыты. «Тут больше никто не живет, — подумала я и тотчас возразила самой себе: — Да нет, наверно, ужинают в каком-нибудь кафе». Сидеть дома сентябрьским вечером на Сицилии немыслимо, так что, скорее всего, здешние жители сейчас наслаждаются свежим воздухом. Когда стемнеет, семьи с детьми и влюбленные пары вернутся домой, распахнут окна, впустят в дом ночную прохладу и пойдут спать, а может, соберутся в столовой и поболтают перед сном о том о сем. Размышления об этих воображаемых людях помогали мне не свернуть с пустынных улиц.
Наконец впереди показались очертания моей школы. Глаза сами отыскали последнее окно в нижнем левом углу здания, из которого учительница однажды выкинула найденную под моей партой шпаргалку, заявив, что лучше совсем ничего не знать, чем знать кое-как. Я подняла глаза на надпись вверху стены: «Тридцать веков Истории позволяют нам с величайшей жалостью смотреть на некоторые доктрины, проповедуемые за Альпами». Взгляд машинально упал на ноги, но на этот раз моя обувь — пара простеньких темных балеток — была сухой и чистой. Влажный воздух проникал прямо в кости. Синий час сменился серым. Пришла пора поворачивать обратно к дому, однако мне требовалось побывать еще в одном месте — на пьяццетте [9] возле здания суда.
В школьные годы, доделав уроки, мы с Сарой нередко приходили туда посидеть у фонтана Водолея. Сумерки опускались на крыши автомобилей, застывших в ожидании зеленого сигнала светофора, а мы плюхались на скамейку, держа в руках по пакетику с еще дымящимися крокетами, купленными в ближайшем гриль-баре. Иногда мы что-нибудь пели. Я ощущала на своих плечах дыхание мраморного паренька, оседлавшего земной шар, подчас он дул сильнее и согревал мою шею болеутоляющим теплом, вода в фонтане никогда не била, так что плакать мне не хотелось. Сара была такой же, как я, но в ее жизни ничего не поменялось, ее дом оставался легким и обыкновенным, а мысли были такими, какими им полагается быть в подростковом возрасте; когда мы с Сарой проводили время вместе, мне тоже могло быть четырнадцать, как ей, и потому я цеплялась за нее, точно утопающая, я ненавидела все возрасты, ведь мой отец превратился в человека без возраста, и я чувствовала, что каждый его день рождения будет приносить мне лишь новую боль.
Пьяццетта была названа в честь бога Януса, позже переименованного в Водолея. Мессинцы знали его как Дженнаро.
Сегодня он опять предстал передо мной — одиннадцатый знак зодиака, вокруг которого все поросло сорняками, маленький и еще более безымянный, чем гигант из моих воспоминаний; теперь это был не юноша, который обдувал меня-подростка в шумные вечерние часы, а лишь кусок безмолвного и никому не нужного мрамора.
Я улеглась на скамейку, положив руки под голову, согнула ноги в коленях и обвела взглядом изображения пронзенных сердец и разные тексты, выведенные маркером на железной спинке. Загорелись уличные фонари, мои мысли сосредоточились на одной теме. Прошлое далеко позади, предметы сохраняют неподвижность только в моей памяти, одно и то же видение повторяется в тысячный раз, будто театральная постановка: отец просыпается в шесть шестнадцать, резким ударом выключает будильник, время на циферблате магическим образом останавливается, отец выбирает галстук, надевает его, чистит зубы, оставляет на раковине кляксу пасты, напоминающую слизь улитки, выходит из дома в синей куртке, оборачивается, чтобы посмотреть на дверь, испытывает меланхолическое удовлетворение. Занавес, свет гаснет, никто не аплодирует. Мои глаза не видели этого представления, но его ежедневно показывали в моей душе на протяжении двадцати трех лет.
Я легла на бок. Вытащила из кармана единственную вещь, взятую из дома, — ароматизированную зеленую ручку, которой когда-то подчеркивала разные записи в домашних работах и строчила Саре послания о нерушимой дружбе. Отыскав среди имен, сердечек и непристойных картинок неисписанный кусочек скамьи, я помолилась о том, чтобы мой умерший отец обрел покой, и вывела на металлической поверхности заветную фразу. Возможно, настоящие сироты посмеялись бы над ней, но те, кто продолжил жить после исчезновения своих близких, поняли бы меня. «Здесь лежит Себастьяно Лаквидара, дочь Ида оплакивает его» — вот что за слова появились на железной скамье.
Когда я дописала некролог отца, ярость, которую вызывало во мне его имя, утихла.
Наконец впереди показались очертания моей школы. Глаза сами отыскали последнее окно в нижнем левом углу здания, из которого учительница однажды выкинула найденную под моей партой шпаргалку, заявив, что лучше совсем ничего не знать, чем знать кое-как. Я подняла глаза на надпись вверху стены: «Тридцать веков Истории позволяют нам с величайшей жалостью смотреть на некоторые доктрины, проповедуемые за Альпами». Взгляд машинально упал на ноги, но на этот раз моя обувь — пара простеньких темных балеток — была сухой и чистой. Влажный воздух проникал прямо в кости. Синий час сменился серым. Пришла пора поворачивать обратно к дому, однако мне требовалось побывать еще в одном месте — на пьяццетте возле здания суда.
Слева променад и музей, другими словами — вода и место, где много лет работала мама. Справа собор и въезд на шоссе, другими словами — исторический центр города, после реставрации напоминающий парк развлечений, и возможность побега. Но я просто хотела остаться на какое-то время невидимкой, побыть без телефона, без часов, без карманов, без чего-либо вообще. Можно подняться к кварталам с панорамными видами на город по одной из тех улиц, которые носят название «торренти» (когда-то в городе протекало немало рек, но впоследствии их засыпали песком, а поверх устроили дороги, соединившие побережье с холмистой частью города) — торренте Трапани, торренте Джостра, торренте Боччетта… Закрыв глаза, я вдохнула запах пресной воды, пробивающейся сквозь асфальт. Мессина стоит на топкой почве. Я решила повернуть в сторону пасседжатаммаре — туда, где море настолько слилось с городом, что о его существовании в этом месте практически никто не помнил, в точности как никто не помнил о существовании рек, погребенных под проезжими дорогами.