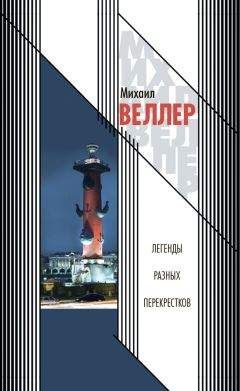Чарльз Буковски - Из блокнота в винных пятнах (сборник)
Я не навязываю руке писать ложь ради создания еще одного стиха.
смерть колотится мне в ум, как дикая летучая мышь, запертая у меня в черепе.
словно желтый комод в старых меблирашках в Новом Орлеане или Атланте, или в Саванне, или на Храмовой улице в Лос-Анджелесе, стоя с сигаретой и играя с безумьем и смертью. Можешь рассказать мне о реках и дожде, а я тебе отвечу о мертвых худых телах на дури и в муках, что грезят о жизни получше, нежели даденной без женщины, работы или страны, падших по всем барам, цветущим гомосексуалистами, играющими на ненастроенных пианино, и тупорылыми кассирами-хозяевами, насвистывающими себе мертвых монет.
Полиция интересуется, что это вы делаете здесь у воды? а я выплевываю сгнивший зуб и придерживаю кровотечение из бока. полиция интересуется, почему вы не спите дома в такое время ночи? а рыба нападает на рыбу, и кости Цезаря до того тихи, полиция интересуется, где вы живете? нет, зачем вы живете? но где? и отводят меня к себе в тюрьму, штуку из дерева и стали. как вас зовут? спрашивают они. задают всякие простые вопросы, и я полагаю, именно поэтому они такие толстые, и бесстрашные, и чистенькие.
Мой юный друг очень юн и задает юные вопросы. Сомневаюсь, что у него и половой акт-то бывал. Но это не важно. Какая-нибудь шлюха его отыщет. Спасенья нет.
Вы верите в цену жизни? спрашивает он. Я не очень понимаю твой вопрос. Я не верю в цену ничего. Я мечтатель. Я верю в обладание без боли. Я не реалист. Мне не хватает хребта, я ненавижу скуку и стремленье. Я б лучше послушал увертюру к «Самсону» Генделя.
Вы верите в Бога?
Все возможно…
смочь бы мне только снести себе башку из.45-го, не думая, до того зелена трава.
прохладен ветер в стариковском моем
сердце.
кости моей любви лежат средь моих дам, средь моих дам, и моя вялость теперь так драгоценна.
мертвые так стары а
живые так практичны.
зверские рифмы штурмуют мне сердце, собираются там, топают вялыми ножками средь чумы и обломков.
твоя любовь – Куба с бородой, десятигрошовая пресса, смердящая ромом; твоя любовь – бейсбольный мяч в галстуке-бабочке, играющий на мандолинах под Брамса; твоя любовь – 14 кошек, пинающихся мне в мозг; твоя любовь – кункен и лицемерные уроды, торгующие брошюрами на Восточной Первой; твоя любовь сшита на заказ в одинокой тюрьме; твоя любовь – потопленье судов, торпеда сомненья; твоя любовь – вино и живопись, и живопись Пикассо; твоя любовь – спящий медведь в погребе «Мулен-Ружа»; твоя любовь – разломанная башня, куда ударила молния Эйфеля; твоя любовь гуляет по холмам, и карабкается в горы, и запускает русских на луну.
почему ж
ты
уходишь?
смерть, наконец-то, скукота – все равно что ставень задвинуть. мы все сразу не умираем, вообще говоря, а мало-помалу, по чуть-чуть. молодым умирать труднее и жить им труднее, и не понимают они ничего. но они щедрей прочих, и верней, и лучше приспособлены вести осторожных мудрых. кто выживает осмотрительностью? даже не паук. покажите мне тех, кто остался, и я вам не покажу ничего. молодым еще предстоит сдаться факту. а факт – всего-навсего копоть веков. молодой бутон крепче всего. я стар, поэтому вам меня не порицать предвзятостью.
мы все выпивали, и замели нас на улицах. камера набита забулдыгами, все они не поют и не слышали изумительную симфонию № 9 Бетховена. Тут как в монастыре, только Бог очень далеко. мимо проходит охрана, видит – я стою. «Ложись спать, – говорят они. – Ложись спать». Они мне жену мою напоминают.
почему они вечно хотят сна? почему я должен закрывать глаза от этой зверской вселенной? мне снится песня… как эти люди храпят, а луна красит их лица смертью… наутро они проснутся и почешутся, и обматерят чаек, что вихрем налетают выклевать их тускнеющие глаза.
ты просто дурака валяешь, дружочек, сказал он, и я врезал ему в глаз платиновой трубой, выбил глаз и швырнул его пролетавшему стервятнику. Я знаю, для тебя это не предел, сказал он, и я вспорол ему живот, как шахматную доску. ты лучше всех, сказал он, когда садишься за пишущую машинку, горы сдвигаются. нахер эту ерунду, сказал я. хочу победителя в 6-м. сочини мне сонет, рассмеялся он, сочини мне красивый сонет! я снова раскроил его, и он рухнул ниц, а затем поднял свою уродскую голову, с которой капало, в самый последний раз: я в 12 лет начал грумом, уводящим лошадей после скачек, рассмеялся он, зная, что я в ловушке, и я тебе так скажу: лошадок тебе ни за что не побить.
я выключил свет и оставил его в луже его же крови. снаружи зажигались фонари, а туман таял, и меня тошнило от всего, особенно от поэзии.
особенно от поэзии. поэзия. У меня башка трещит, аки кокос, который катится по камням. их чертова артиллерия херачила до жмура и с пор Христа Пасхального, а грязь набивается мне в уши. зубы у меня болят, печенка почернела (никакой тут расовой дискриминации), у меня запор (тоже никакой расовой дискриминации – мне нужно быть очень осторожным, поскольку у нас демократия, а я белый), но Христа ж ради, вы считаете, жить стоит? правда? дело не в этом – зубы болят, а печенка побелела. ничего нет, кроме шрапнели и путаницы, и никто не знает, за что он, к черту, сражается. Однако все продолжают. все дальше. и дальше.
хочешь окончанья?
сам и пиши. я?
Не буду я распечатывать еще одну путылку. не путылку, а бутылку. сам распечатывай, а я выпью. и попробуй писать столько же, сколько писал я, и при этом не падать со стула. Меж тем пошел к черту, пока не поймешь отчаянности живого искусства без наклеенных усов. Я знаю, знаю, дело не в этом, все дело определенно не в этом: башка у меня трещит, аки кокос, катящий по камням, а все блондинки старухи, и под ногами у меня хрустит листва.
Бессвязный очерк о поэтике и чертовой жизни, написанный за распитием шестерика (высоких)[6]
В те дни, когда я считал себя гением и голодал, и никто меня не печатал, я, бывало, тратил гораздо больше времени в библиотеках, чем сейчас. Лучше всего было занять пустой стол там, где в окно падало солнце, чтобы оно грело мне загривок, и затылок, и руки, и тогда мне становилось не так плохо от того, что все книги в их красных, оранжевых, зеленых и синих обложках скучные, стоят себе, как в насмешку. Лучше всего было, чтобы солнце падало на загривок, и тогда можно грезить, и дремать, и стараться не думать о квартплате, еде, Америке и ответственности. Гений я или нет, меня заботило далеко не так, как тот факт, что мне просто не хотелось быть частью чего угодно. Меня изумляла животная прыть и энергичность собратьев-людей: может вот человек менять весь день покрышки, или водить фургон с мороженым, или баллотироваться в Конгресс, или кишки кому-то выпускать в операционной или при убийстве – все это уму было непостижимо. Я и начинать-то не хотел. И до сих пор не хочу. Когда б ни получалось надуть эту систему жизни, мне это казалось хорошим достижением. Я пил вино, и ночевал в парках, и голодал. Самоубийство было моим главным оружием. Мысль о нем давала мне хоть какой-то покой: мысль, что клетка не совсем вообще-то закрыта, на самом деле придавала мне еще немного сил посидеть в ней. Религия казалась надувательством, фокусом зеркал, и я чувствовал, что если и должна быть Вера, то вера эта должна начаться во мне самом без уже готовых легких вспомогательных средств, уже готовых богов… Во все остальное, похоже, включались женщины: они назначали себе цену и взимали плату, но от чувствительности моего глаза и какой-никакой души, что во мне была, казалось, что все они выдвигают требования выше их стоимости. А наблюдая за своим отцом, этим оскотинившимся чудовищем, который сделал меня выблядком на сей прискорбной земле, я осознал, что человек всю жизнь может вкалывать и все равно остаться нищим: жалованье отбиралось покупкой нужных ему вещей, мелочи всякой, вроде автомобилей и кроватей, радиоприемников и еды, и одежды, которые, как женщины, запрашивали цену, намного превышавшую их стоимость, и держали его в нищете, и даже гроб его был последним насилием пристойности: все это дорогое, лакированное красивое дерево для слепых червей преисподней.