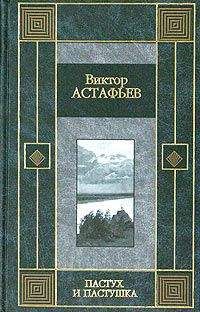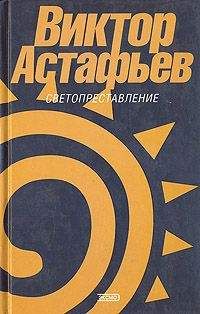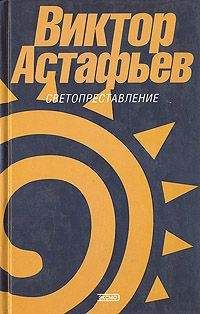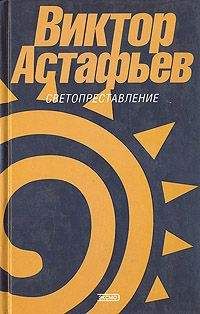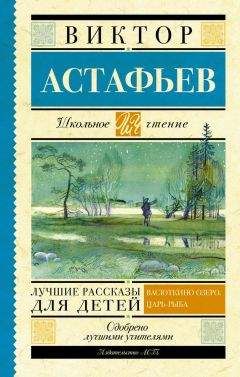Виктор Астафьев - Пастух и пастушка
— Вот тут и ложитесь, — показала Люся на кровать.
— Нет! — испугался взводный. — Я такой… — пошарил он себя по гимнастерке и ощутимее почувствовал под нею давно не мытое, очерствелое тело.
— Вам ведь спать негде.
— Может быть, там, — помявшись, указал Борис на дверь. — Ну, на скамье. Да и то… — он отвернулся, покраснел. — Зима, знаете. Летом не так. Летом почему-то их меньше бывает…
Хозяйке передалось его смущение, она не знала, как все уладить. Смотрела на свои руки. Борис заметил уже, как часто она смотрит на свои руки, будто пытается понять — зачем они ей и куда их девать. Неловкость затягивалась. Люся покусала губу и решительно шагнула в переднюю. Вернувшись с ситцевым халатом, протянула его.
— Сейчас же снимайте с себя все! — скомандовала она. — Я вам поставлю корыто, и вы немножко побанитесь. Да смелей, смелей! Я всего навидалась. — Она говорила бойко, напористо, даже подмигнула ему: не робей, мол, гвардеец! Но тут же зарделась сама и выскользнула из комнаты.
Раскинув халат, Борис обнаружил на нем разнокалиберные пуговицы. Одна пуговица была оловянная, солдатская, сзади пришит поясок. Смешно сделалось Борису. Он даже чего-то веселое забормотал, да опомнился, скомкал халат, толкнул дверь, чтобы выкинуть дамскую эту принадлежность.
— Я вас не пущу! — Люся держала фанерную дверь. — Если хотите, чтобы высохло к утру, — раздевайтесь!
Борис опешил.
— Во-о. Дела-а! — почесал затылок. — Д-а, да что я на самом деле — вояка или не вояка?! — решительно сбросил с себя все, надел халат, застегнул и, собрав в беремя манатки, вышел к хозяйке, да еще и повернулся лихо перед нею, отчего пола халата закинулась, обнажив колено с крупной чашечкой.
Люся прикрыла рот ладонью. Поглядывая украдкой на лейтенанта, она вытащила из кармана гимнастерки документы, бумаги, отвинтила орден Красной Звезды, гвардейский значок, отцепила медаль «За боевые заслуги». Осторожно отпорола желтенькую нашивку — знак тяжелого ранения. Борис щупал листья цветка, нюхал красный бутон и дивился — ничем он не пахнет. Вдруг обнаружил — цветок-то из стружек! Червонный цветок напомнил живую рану, занудило опять нутро взводного.
— Это что? — Люся показала на нашивку.
— Ранение, — отозвался Борис и почему-то соврал поспешно, — легкое.
— Куда?
— Да вот, — ткнул он пальцем в шею себе. — Пулей чиркнуло. Пустяки. Люся внимательно поглядела, куда он показал: чуть выше ключицы фасолиной изогнулся синеватый шрам. В ушах лейтенанта земля, воспаленные глаза в темно-угольном ободке. Колючий ворот мокрой шинели натер шею лейтенанта, он словно был в галстуке. Кожей своей ощутила женщина, как саднит шея, как все устало в человеке от пота, грязи, пропитанной сыростью и запахом гари военной одежды.
— Пусть все лежит на столе, — сказала Люся и снялась с места. — Немножко еще помучайтесь, и я вас побаню. «Побаню!» — подхватил взводный тутошнее слово.
— Возьмите книжку, что ли, — приоткрыв дверь, посоветовала Люся.
— Книжку? Какую книжку? Ах, книжку!
В маленькой комнатке Борис присел перед этажеркой. Халат скрипнул на спине, он скорее выпрямился, распахнув полы, оглядел себя воровато и остался недоволен: мослат, кожа в пупырышках от холода и страха, бесцветные полоски разбродно росли на ногах и на груди.
Книжки касались все больше непонятных ему юридических дел.
«Вот уж не подумал бы, что она какое-то отношение имеет к судам».
Среди учебников и наставлений по законодательству обнаружилась тонехонькая, зачитанная книжка в самодельной обложке.
— «Старые годы», — вслух прочел Борис. Прочел и как-то даже сам себе не поверил, что вот стоит он в беленькой, однооконной комнате, на нем халат с пояском. От халата и от кровати исходит дразнящий запах. Ну может, и нет никакого запаха, может, блазнится он. Тело не чувствовало халата после многослойной зимней одежды, как бы сросшейся с кожей. Борис нет-нет да и пошевеливал плечами.
Все еще позванивало в голове, давило на уши, нудило внутри.
«Поспать бы минут двести-триста, а лучше четыреста!» — глядя на манящую чистоту кровати, зевнул Борис и скользнул глазами по книжке. «Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное…» — Борис изумленно уставился на буквы и уже с наслаждением, вслух повторил начало этой старинной, по-русски жестокой и по-русски же слезливой истории.
Музыка слов, даже шорох бумаги так его обрадовали, что он в третий раз повторил начальную фразу, дабы услышать себя и удостовериться, что все так оно и есть: он живой, по телу его пробегает холодок, пупырит кожу, в руках книжка, которую можно читать, слушая самого себя. Как будто опасаясь, что его оторвут, Борис торопливо читал слова из книжки и не понимал их, а только слушал, слушал.
— С кем вы тут?
Лейтенант смотрел ни Люсю издалека.
— Да вот на Мельникова-Печерского напал, — отозвался он наконец. — Хорошая какая книжка.
— Я ее тоже очень люблю. — Люся вытирала руки холщовой тряпкой. — Идите, мойтесь. — Полизанная платком, она снова сделалась старше, строже, и глаза ее опять отдалились в обыденность.
Прежде чем попасть за русскую печку, в закуток, где была теплая лежанка-на ней-то и приспособила Люся деревянное корыто, оставила баночку со своедельным мылом, мочалку, ведро и ковшик, — Борис выскреб из-под стола запинанного туда озверело храпящими солдатами чердынского вояку, сводил его до лохани, подержал под мышки до тех пор, пока не перестало журчать, а журчало долго, и только после этого сказал себе бодренько:
— Крещайся, раб божий! — сказал и, едва не опрокинув корыто, с трудом уселся в него.
Он мылся, подогнув под себя ноги, и чувствовал, как сходит с него не грязь, а отболелая кожа. Из-под кожи, скотской, толстой, грубой, соленой, обнажается молодое, ссудороженное усталостью тело, и так высветляется, что даже кости слышны делаются, душа жить начинает, по телу медленно плывет истома, качает корыто, будто лодку на волне, и несет, несет куда-то в тихую заводь полусонного лейтенантишку.
Он старался не наплескать на пол, не обшлепать стену, печку и все же обшлепал печку, стену и наплескал на пол.
В запечье совсем сделалось душно, потянуло отсыревшей глиной, назьмом, в носу сделалось щекотно. Вспомнилось Борису, как глянулось ему, когда дома перекладывали печь. Виднелось все до мелочей. Дома все перевернуто, разгромлено — наступала вольность на несколько дней. Бегай сколько хочешь, ночуй у соседей, ешь чего придется и когда придется. Мать, явившись с уроков, брезгливо корчила губы, гусиным шагом ступала по мокрой глине, ломи кирпича. Весь ее вид выражал нетерпение, досаду, и она поскорее скрывалась в горнице, разя отца взыскующе-суровым взглядом.