Эдуард Кочергин - Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека
Хоронили его декабрьским понедельником одновременно с кладбищенским дуриком Гошей Ноги Колесом на Смоленском кладбище, недалеко от реки Смоленки. Только Гошу хоронили окрестные нищие, а Мечту Прокурора в последний путь провожала вся верхушка воровской цивилизации островного города, платившая последние болезненные годы Степану Васильевичу пенсию из общака.
Поминальная трапеза памяти великого вора проходила в главной «зале» Анютиной малины. Стол-верстак накрыт был по старым правилам русской тризны — селёдка, блины, кутья, кисель и тому подобное, как полагается, с чухонской добавкой — ржаным пирогом, начинённым гречей и рыбой, который почему-то ни один пахан не попробовал. Ели его только Анюта и Моня, старый скрипач с Сазоновской улицы, которого она пригласила на тризну. Моня Голодайский, или, как его окрестили образованные, Моня Декабрист, с её татиком выкурил на лютеранских кладбищенских камнях не одну беломорканалину. Фамилия Мони была похожа на фамилию одного из декабристов — не то Раевский, не то Одоевский, отсюда его кликуха. Выпив несколько поминальных рюмок за воровского маэстро, Моня всю ночь за перегородкой в сенях пилил на скрипке своего печального Мендельсона вперемежку с одесскими воровскими мелодиями.
За окнами пограничного с лютеранским кладбищем малого домишки, где питерские воры в законе поминали своего легендарного кента, стояла полярная ночь и мертвая тишина. Под утро от натопленной печи в хавире стало жарко. Анюта открыла окно кухни, выходившее на немецкое кладбище. Где-то в половине пятого в районе Уральского моста залились собаки. Вслед за ними залаял Бармалей, собачий вожак, обитавший в склепе недалеко от дома. Это было время, когда любую машину, переезжающую мост через Смоленку, особенно ночью, встречал лай голодайских собак, предупреждающий местных обитателей, что к ним на остров пожаловали колёса. В такую пору на остров только ментовские колёса жалуют. Собаки сделали своё дело. Буквально через полторы минуты поминальщики спустились через кухонное окно на лютеранское кладбище. Пройдя сквозь него и перейдя по льду реку Смоленку, через православное кладбище воры вышли на Малый проспект и исчезли с ветром в островных улицах и линиях.
Собаки, не переставая лаять, сопровождали милицейские машины, поднимая местных обитателей с постелей. Проехав полторы трамвайных остановки, фараонские колёса остановились у прохода на Сазоновскую улицу за квартал от того дома, где можно было дворами пройти к воровской малине, и стали оцеплять всю прилегающую к нему местность. Но было поздно — в домишке остались только Анюта и пьяненький Моня.
После окрестные соседи, наблюдавшие из окон всё это зрелище, рассказывали, что, когда Анюту вели из дома к машине, местные беспризорные собаки во главе с Бармалеем напали на фараонов, пытаясь отбил свою землячку. Произошло целое сражение, и легавым пришлось омокрушиться — застрелить вожака.
Последние слова, произнесённые Анютой при запихивании ее в «воронок», были:
— Сатана-перкеле, фараоны проклятые, собак-то за что, кураты мокрушные!
Вслед за Анютой Моня со своей скрипкою попытался забраться в «воронок». Но здоровенный мент, выбив из его рук скрипку, кувырнул Моню со ступенек со словами:
— Куда суёшься, алкаш скрипучий, по «Крестам» скучаешь? А ну, вали отсюда, очкарик пернатый!
— Позвольте вам, товарищ начальник, заметить, — произнёс из снега очкастый «декабрист», — я не пернатый, я пархатый, а скрипка здесь вообще ни при чём.
С отсиделок Анюта не вернулась, и с нею с древнего Голодайского острова исчезли последние чухонские чистота и уют.
В заключение необходимо сказать, что блатной народ с питерских островов наградил воровскую Еву-Анюту почётной кликухой Непорочная за честное служение. Ни одного вора за пятнадцать лет своей малины она не сдала государству и свято соблюдала неписаные законы воровского цеха.
Гоша Ноги Колесом. Островной сказ
В то победоносное, маршевое время этих людишек никто не замечал и не думал о них, разве что Господь Бог и легавые власти, что и понятно: они, грешные, всегда были виноваты. Но невзирая на это человечки жили своей непридуманной жизнью, по-своему кормились, ругались, любились, развлекались и на вопрос «Как живёте?» отвечали: «Пока живём» или шутили: «Так и живём — курочку купим, петушка украдём».
Обитали они на обочинах двух питерских островов — Васильевского и Голодая, если официально, то острова Декабристов. На нём тайно захоронили казнённых аристократических революционеров, а несколько позже к ним присоединили повешенного на Смоленском поле цареубийцу Каракозова.
Остров Голодай, как звали его в народе, по одной из городских легенд подарен был императрицей Екатериной II английскому купцу-врачу за тороватость в торговле и медицине. А врача-купца звали Холидэем — что русско-чухонская шантрапа со временем переделала в Голодай в соответствии со своим житейским положением. С тех пор это прозвище укоренилось в головах местных жителей и до 1930-х годов считалось официальным названием.
Большой и маленький острова отделяются друг от друга речкой Смоленкой, на берегах которой с двух сторон расположены три старинных питерских кладбища: с Василеостровской стороны — Смоленское православное, напротив, с Голодая, — два других: армянское и лютеранское. В этом месте река несколько изгибается, и как раз на её излучине стоит Смоленский мост, соединяющий два острова и три кладбища вместе.
17-я линия Васильевского острова, пересекая Камскую улицу, выходит через этот мост к лютеранскому немецкому, а сама Камская улица, практически являясь продолжением набережной реки Смоленки, заканчивается Смоленским кладбищем. Наверное поэтому островные жильцы в то советское время острили, что все дороги Васильевского ведут на 17-ю линию. Да, ещё одна интересная подробность: названия улиц в этих краях остались дореволюционными. Советская власть почему-то не переименовала здесь ни одного переулка. Места, как говорят в городском народе, окраинные, занюханные, злачные, и сами понимаете, кто в таких местах селится: маклаки, воры, проститутки, ханыги, городские и кладбищенские певцы Лазаря — нищие и прочие отбросы нашей цивилизации. Знаменитостью этой территории в ту далекую пору являлся «приставленный к жизни грех человеческий», как он себя именовал, а по-людски — Гоша-летописец, или, как величало его островное пацаньё, Гоша Ноги Колесом.
Славу свою он приобрёл не житейскими подвигами, а скорее, безобразным, нелепым уродством, которое и описать-то трудно. Самым хитрым уродописцам такого не придумать — в голову не придёт. Если снять с него рисунок на бумагу, то прокурор не поверит, что такая невидаль существует на земле.

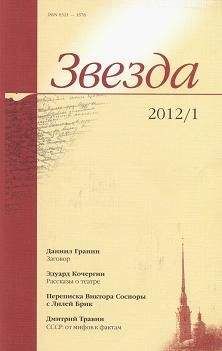
![Эдуард Кочергин - Крещённые крестами. Записки на коленках [без иллюстраций]](/uploads/posts/books/15101/15101.jpg)
