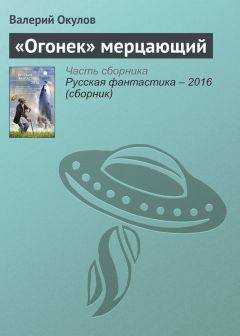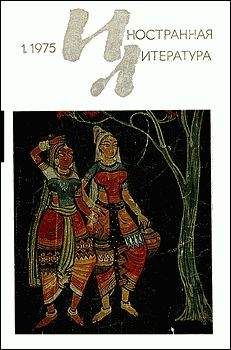Тэцуо Миура - Блуждающий огонёк
— Да нет, в горле что–то колет. Будто шип вонзился.
«Ну значит, кость застряла», — подумал Ресаку. Надо проглотить комок риса, не разжевывая. Но в миске у Хидэ было пусто.
— Возьми мой рис и проглоти кусок целиком. Глотай, быстро!
Он передал ей свою миску. В деревне говорили в таких случаях: «Глотать со слезами». Может, оттого, что человек, когда рыдает, жевать не может.
Хидэ набивала рот рисом из его миски и, выпучив глаза, проглатывала его. Он легонько стучал ей по спине, озираясь по сторонам. Когда кость наконец проскочила, риса в его миске не осталось.
— Надо мной тоже частенько потешались оттого, что я, когда приехал в город, все давился рыбьими костями, — утешал он смущенную Хидэ, выйдя из кафе. — Все давятся, пока не привыкнут. Зато городские жители язык царапают, когда едят каштаны.
С большой улицы они вышли на берег моря, и тут он вдруг заметил, что Хидэ шаркает ногами точно так же, как ему послышалось утром, еще до рассвета. На ней были старые кеды, и стертыми подошвами она тихонько шаркала по асфальту.
— Ну конечно… — прошептал он.
— Что?
— Да так, ничего особенного.
V
Они зашли к хозяину верфи, и Хидэ церемонно представилась, чем удивила Ресаку. «Смотри ты, какая самостоятельная!» — подумал он, вспомнив, как несколько лет назад он сам, пробормотав что–то невнятное, лишь поклонился хозяину.
Уплетая вареные каштаны в каморке на втором этаже сарая, Хидэ вдруг тихонько хихикнула.
— Что это ты? — удивился Ресаку, но она, как и он на улице, ответила:
— Да так, ничего особенного.
— Разве можно смеяться ни с того ни с сего, когда сидишь за едой рядом с другим человеком? — рассердился он. Тогда Хидэ, выплюнув в окно червивый кусочек каштана, сказала, не глядя на него:
— Просто я подумала, что ты стал настоящим мужчиной.
— Еще чего!
Он почувствовал, что краснеет. И с удивлением заметил, как Хидэ тоже зарделась у него на глазах. Он почему–то смутился, однако не придал этому значения.
— Поживешь в городе года три и тоже станешь настоящей женщиной, сказал он.
Он продолжал есть каштаны, а когда поднял глаза, увидел, что Хидэ стоит у окна и смотрит на море. Она уже не смеялась. Румянец погас на ее щеках. Профиль ее был печален — никогда прежде он не видел ее такой печальной. У него заныло сердце.
— Что с тобой? Каштанов больше не хочешь?
— Нет, каштанов больше не хочу, — сказала Хидэ, щурясь на море. И, помолчав, прошептала: — В городе, говоришь…
Он понял, что сказал не то, что надо. Жестоко говорить девушке на выданье, обреченной жить в глуши: «Поживешь в городе года три…» Но не мог же он сказать, что она должна похоронить себя в деревне ради безнадежно больной матери.
— Ну ладно, не огорчайся. Скоро и ты переедешь в город. Потерпи немного.
Он думал утешить сестру и не предполагал, что она рассердится, а Хидэ вдруг совершенно неожиданно вспылила:
— Ты хочешь сказать, подожди, мол, пока матушка умрет?
Он вздохнул и промолчал. Они долго молчали.
VI
Под вечер Ресаку повел Хидэ на берег моря, хотел развлечь ее немного. Место было не такое уж примечательное — холодная северная бухта, — однако прогулка сверх ожидания чудесным образом подняла настроение Хидэ. Уже само море было ей в диковинку. Хидэ собирала мелкие ракушки на прибрежном песке, играла с набегавшей волной, рисовала палочкой на мокром песке картинки и иероглифы — словом, забавлялась, как дитя, хотя даже здешние дети старше пяти лет не стали бы развлекаться таким образом.
Глядя на Хидэ, он успокоился, и в то же время чувство жалости к ней усилилось. «Я должен много работать, — подумал он. — Буду прилежно трудиться и заберу тогда мать и сестру в город».
В тот же вечер он отвел Хидэ в баню. В деревне было бы достаточно и раз в два месяца посидеть в бочке с горячей водой, а тут приходилось ходить чаще. Хидэ обещала мыться всего час, однако он прождал ее у бани лишние полчаса.
Наконец Хидэ выбежала из бани, на ходу извиняясь. Увидев ее, Ресаку вытаращил глаза от изумления. Перед ним стояла совсем другая девушка. То ли оттого, что волосы ее были чисто вымыты, или потому, что она раскраснелась после бани, только Хидэ была совсем не похожа на себя.
— Ну вот и красавицей стала, правда? — сказал Ресаку.
Хидэ усмехнулась и показала ему язык. Даже губы ее были теперь очерчены по–другому.
— Моюсь, моюсь, а грязь все не слезает. Вот потеха!
У них в деревне вместо «Вот стыд–то!» говорили: «Вот потеха!» Знакомое словечко напомнило Ресаку родной деревенский вечер.
Возвратившись в каморку, Ресаку молча расстелил свой единственный матрас.
— Подушку возьмешь себе, — сказал он сестре. Хидэ промолчала, увидев одну постель, только заметила:
— А как же ты без подушки? Он засмеялся:
— Ладно уж. Пусть хоть подушка у тебя будет настоящая. Из деревни привез. Набита гречишными обсевками!
По правде говоря, хозяйка предложила ему постель для Хидэ, но он отказался: чего там, на одной уместимся. Он стеснялся обременять хозяев присутствием своей сестры. Подумал: хватит и одной постели. В деревне они спали с сестрой на одном матрасе. Так повелось с детства, и он к этому привык.
Однако в тот вечер, увидев Хидэ в рубашке и трусах, он невольно отвел глаза. Хидэ как–то незаметно для него выросла в настоящую девушку: налилась грудь, оформились бедра, стали упругими икры. Они лежали на спине рядом, и им было неловко касаться друг друга. Ресаку чувствовал себя не совсем в своей тарелке. И, засмеявшись, спросил:
— Ну как, не свалишься с матраса?
— Нет, а ты?
— Не беспокойся…
От свежевымытого тела Хидэ исходил незнакомый сладковатый запах, щекочущий ноздри. Он старался не задевать ее, но невольно касался и чувствовал, что кожа ее была горячей, гладкой и нежной.
— Пожалуй, вот так лучше будет, удобнее, — пробормотал он себе под нос, повернулся к ней спиной и вздохнул. Они помолчали.
— А ты не хотел бы жениться, братец? — спросила Хидэ. Голос был смеющийся, но даже на шутливый вопрос Хидэ отвечать не хотелось.
— Когда–нибудь женюсь, — сказал он.
— Когда же?
— Не знаю. Не скоро, видно, раз не знаю. Я ведь еще ученик. Пока об этом не задумывался.
Хидэ молчала. Не потому, что ей нечего было сказать. Просто она не могла открыть брату то, о чем кричала ее душа.
— А к тебе многие, наверно, сватаются, — заметил он в свою очередь просто так, без всякого умысла. Хидэ помолчала, потом сказала:
— Все больше мужчины за сорок.
Теперь была его очередь молчать. О чем тут спрашивать? Ему, уроженцу деревни, и так все было ясно. Раз сватаются женихи за сорок, значит, во всех деревнях окрест не осталось ни одного холостяка моложе. Зато полным–полно мужчин на пятом десятке, все еще не обзаведшихся семьями. Это были взрослые мужчины, младшие братья и сестры которых уехали работать в город. Ресаку и сам был одним из них, и не ему было утешать Хидэ, потому что он отказался бы вернуться в деревню, даже будь у него старший брат и вдруг умри. Ему стало трудно дышать.
— Давай завтра походим по городу, — переменил он тему разговора. Куплю тебе что–нибудь. Чего бы ты хотела?
— Что–нибудь из одежды, — охотно сказала Хидэ, и Ресаку вздохнул с облегчением, радуясь ее простодушию.
— Кимоно?
— Нет, европейскую одежду. Но платья не надо. Я их не носила. Блузку или юбку…
Ресаку вспомнил, что Хиде была в коротких, выше колен, брючках, и сказал:
— Я куплю тебе мини–юбку.
— Мини?! — не то воскликнула, не то выдохнула восторженно Хидэ.
— Ты какой цвет любишь?
— Цвет «китайского фонарика», — сразу же сказала Хидэ.
— Ага! Значит, красная мини–юбка.
Будто не веря ему, Хидэ помолчала немного, потом тихонько уткнулась лбом в его спину. И вскоре послышалось ее сонное дыхание.
VII
Однажды, дней через десять после того, как Хидэ уехала обратно в деревню, Ресаку неожиданно навестил родственник, старик Его из соседней деревни. В тот день Ресаку сидел на пустыре неподалеку от причала и, расстелив на сухой траве циновку, точил тесло. И когда он увидел медленно плетущегося к нему старого Его, ему показалось, что и без того сумрачный день вдруг потускнел.
— Дедушка! — прошептал он и вскочил на ноги. Старик подошел к нему и бросил вдруг, даже не поздоровавшись:
— Едем в деревню!
Застигнутый врасплох, Ресаку молчал, ничего не понимая.
— Хидэ умерла, — пояснил старик. Ресаку молча глядел на него широко открытыми глазами.
— Повесилась на каштане за домом, — добавил старик.
Ресаку пошевелил губами, но не издал ни звука — слова будто застряли в горле.
— На ней была красная юбка, что ты купил ей, а на шее бусы из ракушек…
Ресаку затряс головой, дрожа как осиновый лист.
— Неправда! Не может быть! Неправда все это!
— Нет, правда, — твердо сказал Его. Ресаку перестал дрожать и ошеломленно уставился на старика. — В кармане у Хидэ нашли письмо от тебя.