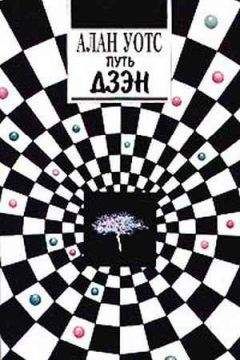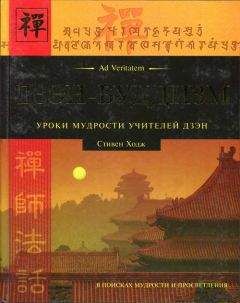Юрий Холин - Песочная свирель. Избранные произведения мастеров Дзэн
С. К.
ИЗНАЧАЛЬНОЕ ЛИЦО
Это – нечто, случающееся спонтанно,
когда вы не делаете ничего, когда вы в
состоянии полного неделания.
Бхагаван Шри РаджнишМне всегда хотелось написать нечто большое, монументальное и удивительное – наподобие «Войны и мира» или «Саги о Форсайтах». Но как только находило вдохновение и идея, тут же обнаруживалось отсутствие под рукой должного количества нормальной бумаги или пишущих ручек, или срочность бежать куда-то.
Однажды, взяв отпуск, я запасся бумагой, заготовил дюжину ручек расписанных и нетекущих и стал ждать вдохновения. Вдохновение не приходило, и на четвертый день я решил пойти на пляж, так как на дворе стоял июнь, и погода не оставляла желать лучшего. Набрав еды и питья, «летящей походкой я вышел из»… дома (хотел сказать «из мая», – как певал Ю. Антонов) и через полчаса троллейбусной духоты уже подходил к берегу реки. И вот в этот самый момент оно нечаянно нагрянуло, «когда его совсем не ждешь», – как пел о любви незабвенный Л. Утесов. Это было Ее Величество Вдохновение. Шикарнейший сюжет с ярко выделенной основной линией, глубочайшие по философскому содержанию мысли, остроумные мондо и диалоги – все это, как вспышка, возникло в моей голове. Не долго рассуждая, я бросился к запасам бумаги и ручкам, но увы: ворвавшись в квартиру, изрядно напугав домочадцев, понял, что от ярких образов, глубоких мыслей и прочего осталось лишь одно настроение, а сюжет можно было только скучно пересказывать, как делают некоторые, утомительно пытаясь пересказать понравившийся им фильм.
Еще раз нечто подобное случилось со мною на пути то ли в магазин, то ли на базар. Я шел мимо какой-то стройки, огороженной снарядонепробиваемыми бетонными заборами, которые способны вам напомнить о чем угодно, только не о стройплощадке, когда Это началось. Помню: вдруг ясно возникла идея описания жизни японского дзэнского монастыря, типа Эйхеджи, и великолепные диалоги между уже просветленным, но еще не укрепившимся в этом состоянии учеником и его наставником. Машинально схватив половинку кирпича, я начал упорно царапать ею по белому бугристому бетону забора эти великолепные, наполненные тонким философским юмором, легкие и чистые, как сверкающие снежинки на солнце, диалоги. Но как можно было качественно изобразить на неровной поверхности кирпичом столь тонкие вещи, да еще в словах! Рука с кирпичом просто не поспевала за мыслью. Много раз пальцы срывались, роняли кирпич и больно, до крови, бились о забор. Под рукой, как на зло, не было маленьких обломков, а все половинки или целые, но дефектные кирпичи, а искать что-то другое не было времени. Забор кончился, но мыслей и кирпичей оставалось еще много. В тот момент мне необходимо было срочно бежать домой продезинфицировать раненные пальцы, взять тетрадь и ручку и срочно все списать с забора длиною почти в квартал. Но тут природа сыграла злую шутку: стоило мне добежать до дома, как пошел дождь, да, «просто летний дождь прошел – нормальный летний дождь», – как пел юный Н. Михалков в незабываемой киноленте «Я шагаю по Москве».
Влекомый каким-то примитивным инстинктом, я все же вернулся к стройке, открыл зонтик, взял его зубами за ручку и, спасаясь таким образом от дождя, попытался списать сцены из монастырской жизни. Все было против рождения литературного шедевра. Даже противотанковый забор наклонился почему-то внутрь, и вода, смешиваясь с кирпичной пылью, красивыми потеками расходилась по нему.
Мне оставалось только стоять и смотреть на то, как безликий, длинный, серый урод превращался в оранжевого в разводах дракона. Это поистине казалось чудом, то, что происходило на моих глазах, и я продолжал стоять под дождем, опустив зонтик, и, завороженный, наблюдал за великим превращением.
Все было смыто, но забор, высохнув, стал необычайно колоритным. Многие прохожие, конечно, с чувством прекрасного в душе, даже останавливались и удивленно разглядывали причудливые оранжевые узоры, выполненные в форме письма на заборе почти в квартал длиною. И многие, наверняка, подсознательно улавливали в его оранжевых разводах чье-либо Изначальное Лицо, и, возможно, даже свое, но, не воспринимая этого сознательно, шли дальше, лишь улыбаясь новому незнакомому чувству.
Ю. Х.
ЛИСТАЕТ СТРАННИК
листает странник
страницы «OMNI».
Как это странно:
себя не помнить,
как это важно —
быть частью века,
листом бумажным
в порыве ветра,
окном на капле,
скользящей в сени,
как Чарли Чаплин
или Есенин,
быть меньше эго
и больше тела,
как память эха,
что пролетела.
Как это много,
когда нас нету.
В ладонях бога
влечет всех к свету,
по миру носит
и нижет в бусы.
А мне бы в осень
босым в Тарусы!
С. К.
ПОЖАЛУЙСТА, ЗОВИ МЕНЯ МОИМИ ВСЕМИ ИМЕНАМИ
Малому знанию не достичь большого знания;
удел петуха – кухонный котел, разве не так?
Мин – ЦзяоНе говори, что завтра мне будто суждено уйти —
сегодня я все время возвращаюсь.
Взгляни-ка лучше – каждый миг я возвращаюсь:
то почкой на весенней ветке,
а то птенцом, что слабенькие крылышки имеет,
и учится петь птицею в моем гнезде,
то гусеницею на цветке,
то бриллиантом, спрятавшимся в камне.
Я возвращаюсь в смехе и в рыданье,
от страха или же надежды.
Биенье сердца моего – рождение и смерть
всего того, что живо.
Я – та веснянка в метаморфозе,
что у поверхности реки.
И птица, что сорвалась камнем и
проглотила ту веснянку.
Я – тот счастливый лягушонок,
плывущий в чистоте пруда.
И та змея, которая неслышно
крадется, чтобы съесть его.
Я – те сплошные кожа-кости ребенка
из страны Уганды,
с ногами тонкими как веточки бамбука.
И я же – продавец оружия,
который смерть шлет в ту страну Уганду.
Я беженкой двенадцати годов от роду
из лодки маленькой
бросаюсь в океан, чтоб утонуть,
не пережив пирата надругательств.
И я же – тот пират, чье сердце до сих пор
не в состоянии ни видеть ни любить.
Я – член политбюро,
с огромной властию в руках.
Но я и тот, кто должен отплатить
свой «долг кровавый» моим же людям,
тихонько мрущим в лагере от непосильного труда.
От радости моей, такой же теплой как весна,
по всей земле цветы цветут.
А горестью моей, которая как реки слез,
наполниться могли б четыре океана.
Пожалуйста, зови меня всеми моими именами,
чтоб слышал я в единый миг мои и плач и смех.
Чтоб чувствовал единство радости и горя.
Пожалуйста, зови меня всеми моими именами,
чтоб был я пробужден!
И сердца дверь, чтоб смог я распахнуть,
Великую ту состраданья дверь.
Thich Nhat Hanh.
(перевод Холина Ю.)
ДЕТИ СОЛНЦА
Wдr nicht Auqe sonnenhaft
Die Sonne Kцnnt’es nie erblieken
Goethe[8]Мы же солнце не видим, потому
что не солнцу подобен наш взгляд,
а оловянной пуговице
Д. МорежковскийНам имя– Свет. Мы многолики.
и каждый, кто готов к борьбе,
встречает радужные блики,
иных причастий смысл великий,
в своей душе, в самом себе.
Мы строим храмы из молчанья,
и в тишине незримых рощ
их робкий след, их незвучанье,
скрывают шаткие преданья
как прежде мезозойский хвощ.
Как приоткрыть нам ниши знаний,
в которых скрыты имена
седых времен и толкований?
Всё обнажит лишь сумрак ранний,
когда спадает пелена
целебных свойств и нашей веры,
способной подвести черту
под промыслом господней меры,
что разделяет разум серый
на белый свет и темноту.
Манящей веры в провиденье,
в судьбу достойную богов.
Но так ли мы крепки в раденье
за здравый смысл своих видений,
когда нам слышен бой часов?
Когда мы чувствуем движенье,
на циферблате – ход теней.
ПРЕОДОЛИМО ЛИ РОЖДЕНЬЕ?
Лик смерти только отраженье
гонца бегущего за ней.
Мы собираем оригами
из омутов, дорог, пустот,
играем в салки с небесами
и распростертыми руками
пространство скручиваем в код.
Мы дети света. Мы предтечи,
готовые открыть секрет.
Но наши сладостные речи
услышит только тот, кто вечен,
кто может оценить совет.
И мысли наши словно семя,
готовое произрасти
сквозь истончившееся темя
побегами своими всеми
за вожделенное: «Прости!»
За ваши слезы, покаянье,
потворство чаяньям души,
за медитацию деянья
и благотворное слиянье
с своею самостью, в тиши.
Мы бредим вашими словами,
мы проживаем ваши сны,
и ваши домыслы меж нами
свивают сеть свою ночами,
в которой застреваем мы.
Как безрассудна ваша стая!
Как беспощадны вы и злы.
Как жизнь свою порой листая,
пороками лишь обрастая,
готовы горстью стать золы!
О господи! Как бездуховны
созданья глупые твои!
Бараны блеющие, овны,
в морях узревшие лишь волны,
а в бесконечности-слои.
Как нам смотреть на это стадо
детей, упрятанных в вертеп
недопустимого уклада?
Им так безумно много надо
вещей, чтобы построить склеп.
Порабощенные вещами,
отягощенные мечтой,
униженные, мстят костями,
мостя коленями, кистями
дорогу в странный свой покой.
Прикованы мы к этим стонам,
могилам, капищам, кострам.
В Содоме том неугомонном
раскидистым, церковным звоном
мы умираем по частям.
Мы таем, свечкой оплываем,
как искры гаснем в облаках.
Мы ничего не понимаем!
Меж вашим адом или раем
различий нет. Есть только страх.
Боязнь утраты и разлуки,
гниющей плоти благодать.
Когда вмещают ваши руки
лишь только боль, болезнь и муки —
тогда мы можем уповать,
надеяться ещё на чудо,
что совесть ваша вновь чиста,
что свят был в помыслах Иуда,
смотря, как человечья груда
вздымала на кресте Христа.
Мы всем и всё давно простили,
нам наше дорого родство
с наивным ведомством мессии;
ведь чаяния, мечты и силы
от света полнились его.
Создатель! Срок предуготовь,
людей величьем надели,
чтоб всеобъятная любовь
смогла предостеречь их вновь,
рассеять стыд и срам Земли.
Богатых надели теплом,
а нищего – блаженным духом.
И в милосердии своем
дай смерти саваны потом
стелить нежнейшим, легким пухом.
Пусть страх исчезнет перед ней,
смерть, как и новое рожденье,
зачата в суматохе дней.
Она – как сома, как елей
сулит достойным пробужденье.
Достойным ветхий небосклон
рассечь своим последним даром
и вспыхнуть в шепоте времен
как яркокрылый махаон
безукоризненным пожаром.
Господь! Создатель! Властелин!
Владыка хроники Акаши.
НАМ ЧУЖДА ТЬМА ТВОИХ ГЛУБИН.
Пока сгорает стеарин
дно заполняется у чаши.
С. К.