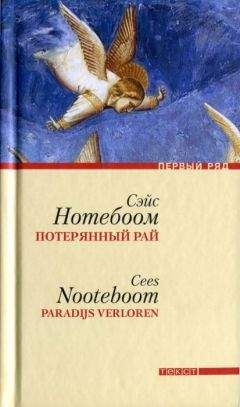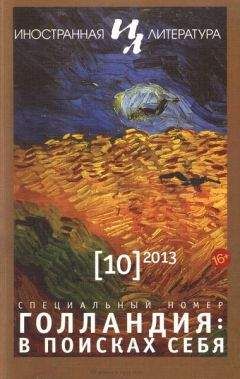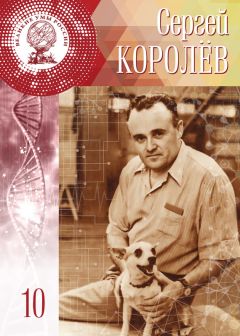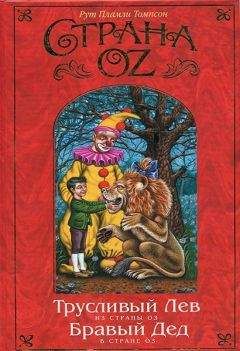Сэйс Нотебоом - Филип и другие
— Твои глаза… — я обвел вокруг них кончиками пальцев, словно рисуя оправу очков, — вокруг них столько морщинок.
Я так и стоял, обнимая ее, а она плакала, прислонясь к стене.
Наконец она сказала:
— Он был такой чудный. — Она сделала ударение на «чу», отчего все слово приобрело странное подвижное звучание.
— Кто? — спросил я.
— Мой ребенок.
— У тебя был ребенок… — Я почувствовал отчуждение. — Думаю, что мне пора спать, — сказал я.
Потом я поцеловал ее на прощание, а она все рассказывала о мужчине, который оставил ее:
— Он был такой красивый и большой и все делал так чудесно; я без труда могла заставить его жениться, без труда, он сам предложил, хотя не хотел настоящего брака. Я этого не сделала, потому и получила — то, что получилось. — Она подняла голову и прямо посмотрела на меня. — У тебя странные глаза, — сказала она, — соблазнительные глаза, наверное, при дневном свете они у тебя зеленые; кошачьи глаза.
Они всегда разные, подумал я, а она просунула руки мне под одежду и сказала, что я тоже должен так сделать, и я почувствовал, какая у нее нежная кожа, мои руки сами собой задвигались, и она снова зашевелилась и тяжело задышала — а я подумал: не хочу слушать твое дыхание, хочу сам так дышать и не хочу ощущать, как ты движешься подо мной (мы очутились уже на траве и лежали на ее плаще), хочу сам двигаться, мне хотелось повторить то, что иногда показывают в кино, сильнее сопеть и двигаться, так же, как она, но у меня ничего не получалось, все это казалось мне дурацким занятием — может быть, потому, что я продолжал думать о том, что она совсем старая и неинтересная и у нее был ребенок, но она, кажется, ничего не заметила. В конце концов, когда я уже лежал неподвижно, она сказала:
— До чего же ты худой.
— Ребенок, — спросил я, — куда он делся?
— Мне пришлось с ним расстаться, — прошептала она, теперь она была по-настоящему расстроена. — Мне пришлось отдать его, и я больше никогда его не увижу — пришлось пообещать, что я не сделаю попытки его увидеть. Он живет с приемными родителями. Это был самый прекрасный ребенок на свете.
— Да, — сказал я.
— Он был крупный и сильный. А теперь у него новое имя, и он никогда не узнает, что та, другая, ему не мать и кто такая я. Но я должна была с ним расстаться, потому что работаю медсестрой в санатории, к востоку от Лондона, и живу при санатории, и я не могла его там держать, когда вернулась на работу после родов.
— Да, — сказал я и поднялся. Я весь закоченел от холода, и мне было больно.
— Поцелуй меня, — попросила она, и я поцеловал ее, так крепко, как мог, потому что заметил, что ей этого хочется; сам я устал и хотел спать и поэтому сразу побежал в дом. Она жила во дворе, в палатке, вдвоем с Эллен.
***Назавтра со мной случилось нечто удивительное. Мы с Вивьен договорились встретиться в час дня у большого пруда в Люксембургском саду, со стороны улицы Медичи. Сам я явился туда часам к одиннадцати, потому что это место мне очень нравилось, — я растянулся на траве и глазел на прохожих. И тут моя румынская шапочка с черно-красной ручной вышивкой стала причиной небольшого приключения, которое много позже, когда я оказался в этом городе без копейки денег, помогло мне найти грязную, плохо оплачиваемую, но жизненно необходимую работу. Я заметил, что за мной наблюдает молодой человек; пока я делал вид, что не замечаю его, он сменил место. Чуть позже он встал и прошел мимо меня. Я дождался, пока он заговорит сам. Голос был мягкий, даже я мог расслышать в его французском иностранный акцент.
— Вы не из Югославии?
— Нет, — ответил я, по тому, как он это спросил, было ясно, что ему очень хотелось, чтобы я был из Югославии. — Нет, я голландец, только шапочка у меня румынская.
Человек, вернее, парнишка оказался политическим эмигрантом, он стал рассказывать что-то о своей стране, а потом дал мне талончик на обед в одном из Foyers Israélites,[33] потому что сам он уже обедал. После мы пошли туда с Вивьен и поели.
Сегодня она не показалась старой, потому что ей этого не хотелось; она выглядела так, словно приняла твердое решение получить кучу удовольствия и всласть повеселиться.
В Foyers было шумно и полно народу, но нам там понравилось; мы смотрели на еврейских мальчиков, некоторые из них были в черных шапочках, похожих на ту, что носил дядюшка Александр; мы слушали разные языки, на которых там говорили.
После я хотел пойти на ile,[34] но Вивьен решила вернуться в кемпинг.
— Зачем, — спросил я, — там же закрыто до пяти?
— Моя палатка всегда открыта.
Я пошел за ней и тогда увидел, как изменилось ее лицо. В палатке было тепло, мы легли рядом, и она ничего не сказала, а я даже не смотрел на нее. Но потом, когда я повернулся и лег сверху, я увидел, как изменилось ее лицо. Оно стало молодым, а солнце, пробиваясь сквозь оранжевую ткань палатки, придало ему оранжевый оттенок.
Я не мог полюбить ее по-настоящему, я думал, что смогу полюбить только ту китайскую девочку, если когда-нибудь найду ее, — но во всем этом было что-то колдовское, я нежно провел рукой по ее лицу, и оно вдруг стало совсем чужим; оно светилось, и я не мог представить себе, что посмел коснуться его.
— Эй, — сказал я тихонько, казалось, она отдалилась, стала такой же недоступной, как ее лицо. Но она никуда не делась, и я сказал: — Эй, твое лицо изменилось.
Она рассмеялась:
— И какое оно теперь?
— Не знаю. — Я подумал немного. — Молодое. И красивое.
Она продолжала смеяться, таинственно, загадочно, и теперь казалась совсем счастливой. Потом подняла руки и, продолжая смеяться, сказала:
— Ты ничего не заметил, да?
— Чего? — Я ничего не видел.
— На самом деле я не должна тебе этого рассказывать, — сказала она. — Мне это неприятно, потому что я трусиха. — И тут я заметил тонкие полоски на внутренней стороне ее рук, у локтей.
— Как? — спросил я.
Она отвернулась, чтобы я не мог посмотреть ей в глаза.
— Бритвой, — сказала она, — в больнице, но я не смогла как следует разрезать вену, и потом меня быстро нашли, я не успела умереть от потери крови.
— О, — сказал я. Она лежала, отвернувшись, но я придвинулся и начал тихонько ее целовать.
Теперь она хотела, чтобы я с ней спал, я знал это; хотя, конечно, она считала меня трусом, ведь тогда, вечером, я не стал драться, и я не был хорош собой, не был высоким, как другие мужчины, и, может быть, не смог бы так хорошо все делать — но время было упущено, в палатку вошла Эллен, а назавтра они уезжали.
Вечером мы решили устроить соревнования. Кто первым доберется на попутках до Кале.
Мы — одна американка, двое австралийцев, Эллен, Вивьен и я. Честно говоря, я в Кале даже не собирался — у меня не было денег, чтобы ехать в Англию, — но я подумал, что, когда Вивьен уедет, у меня не останется знакомых. Куда бы я ни поехал, я всегда в проигрыше, потому что чересчур привязываюсь к вещам и людям и путешествие превращается в цепь расставаний. Я провожу время в расставаниях и воспоминаниях, а адреса, собранные в моих записных книжках, напоминают маленькие надгробия.
***На следующий день я встал в шесть. Париж был угрюмым и жутко холодным. Не знаю, пустился ли я в путь первым, но твердо решил быть в Кале к вечеру — потому что хотел убедиться, что могу участвовать в соревновании наравне с остальными. Странно, весь день я только и думал о том, что вечером она встретит меня в Кале, я не сомневался, что девушки явятся туда раньше меня.
Я доехал на метро до Порт ле Шапель, оттуда — на автобусе до Сен-Дени. Шел мелкий дождик, вокруг не было ни одного дерева, и я промок. Не хотелось ловить машину там, где дома стояли у самой дороги, казалось — кто-то подглядывает за мной из-за занавесок (часто так оно и бывает). Мне не везло, попутки подвозили только на короткие отрезки пути, было их немного, и иногда приходилось подолгу идти с тяжелым рюкзаком меж кукурузными полями и пастбищами, где невозможно было ни сесть, ни прилечь: все насквозь промокло под мелким дождем. Хуже всего было вот так идти, ведь я был один.
Первая машина довезла меня до Шара, лежавшего немного в стороне от дороги, шедшей через Бове, оттуда мне пришлось добираться до Гурне и дальше, до Абвиля.
Я подсел в огромный camion.
— И все кругом куплены, — кричал шофер, — парламент, министры, все…
— Да, — отвечал я, а груз и разболтанные борта кузова аплодировали в знак согласия на каждой выбоине дороги.
Мы курили «Житан», мне приходилось изо всех сил прислушиваться и вовремя давать утвердительный или отрицательный ответ, которого он ожидал, чтобы продолжать.
— И прекраснее всего то, что министры, стоит им просидеть на этом месте неделю…
Интересно, добралась ли уже Вивьен до Амьена, думал я, и какую дорогу она выбрала?