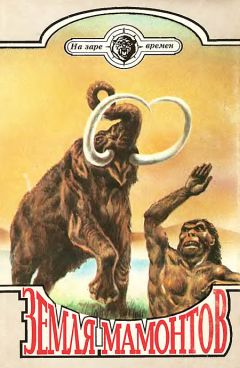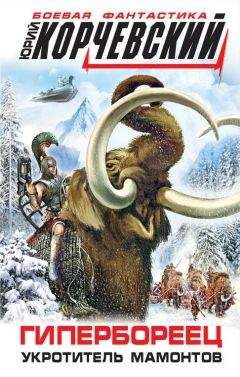Виктор Ремизов - Одинокое путешествие на грани зимы
Но вскоре ветер стал слабеть, только порывами уже налетал, потом совсем стих, и все замерло. Лист не шелохнулся нигде, штормовой гул удалялся вниз по Лене. Ефимов встал, озадаченно озираясь, собрал сухих веток, наломанных ветром, и подложил в почти погасший костер. Кашу попробовал и замер с ложкой в руках. Со стороны зимовья из глубины тайги шел большой снег. Все седело и исчезало на глазах. Рябая белесая завеса приблизилась с тихим шелестом, прошла через Ивана и нависла над рекой. Большие хлопья падали медленно, их было так много, что другого берега не стало видно. Такая тишина наступила в природе, что он, завороженный, сел на буфет и забыл про свою кашу. Их было много, больших и маленьких, очень разных, Иван ловил взглядом одну, чем-нибудь особенную, и провожал до земли. Снежинка была красива, пока летела.
Ефимов очнулся, снял котелок с огня, выколотил почти сварившийся рис о корни сосны и, спустившись к речке, вымыл хорошо. Когда идет снег, вода всегда кажется теплее. Ефимов не верил в этот снег, он не мог бы этого объяснить, но хорошо чувствовал, что это ненадолго. Ясно лишь было, что погода испортилась и что надо плыть.
Он переправился на другую сторону, вытащил лодку кормой на отмель и достал из сумки свой безотказный двухсильный «Судзуки». Прикрутил на транец, залил бензин и отчалил. Мотор залопотал потихоньку и потянул лодку.
Снег летел косо, мелко и колюче. Холодно было. Иван подтянул молнию куртки под самый подбородок и надел перчатки. Вскоре снег превратился в мелкий и обильный дождь, он плыл будто в облаке, радуясь, что не надо работать веслом в такую погоду. Он прошел очередной поворот, вырулил на прямой участок, река была широкая и мелкая. Справа, сквозь дождь, маячила у берега коряга, очень напоминающая силуэт медведя. Так часто бывает — какой-нибудь выворотень на берегу, очень смахивает иногда. Ефимов пригляделся — это не мог быть медведь, он стоял в воде метрах в трех от берега в какой-то странной позе, как будто на задних лапах, передними на что-то опираясь. Медведь повернул к нему голову… Это был большой зверь, до него было метров сорок, не близко, Ефимов заволновался, как ни глупо было, а заволновался от неожиданности, застучал рукой по баллону, медведь услышал, не понял, откуда звук, вздыбился и завертел головой, Иван встал, гаркнул на него и замахал веслом. В два мощных прыжка зверь исчез в кустах.
Медведь опирался не на камень. Лодка приближалась, из реки торчал здоровый лосиный рог. Сохатый был очень большой, лежал на боку, на мелководье, задница у него была хорошо отъедена. Только тут Иван понял, каких размеров был медведь. На всякий случай ружье под руку переложил и внимательно следил за кустами. Но хозяин сохатого никак не проявился, хотя наверняка наблюдал за лодкой.
Вскоре река стала спокойнее, и Иван достал виски. Сделал пару глотков. С виски и под дождем неплохо, — подумал. Было уже четыре, через часок можно было начинать искать место для ночлега. Медведь был очень крупный, если напал на такого сохатого. Скорее всего он задавил его в реке, дотащил до меляка, но в лес поднять не осилил. В лосе не меньше полутонны было. Могло, правда, и так случиться, что покойнику досталось от другого сохатого, дерутся они как следует во время гона, и медведь просто добрал подранка. Но даже если так, вытащить его к берегу… Ефимов вспомнил, как однажды они втроем тащили добытого медведя по такому же мелководью. Медведь тот был раза в два легче, но им здорово досталось. А этот один тянул. Длинноногого и рогатого…
…Хорошая была коса для ночлега. Высокая. Речка очерчивала вокруг правильный полукруг. Ефимов заглушил мотор, в тишине слышно стало, как мелкий дождик шипит по воде. Он вытянул лодку, разгрузился, взял топор, колья для тента и пошел смотреть, где можно было растянуть.
Было еще с час до темноты. Дождь кончился. Он сидел на буфете и слушал, как трещит костер в лесу через речку. Лена неторопливо оплывала косу и косилась на его лагерь и на него. И Ефимову, глотнувшему «огненной воды», казалось, что она его одобряет. А иногда казалось, что она двадцатилетняя девчонка и смотрит с восхищением — что он такой из себя мачо, один тут управляется. Он почему-то совсем забыл, что не бывает таких девчонок, которые смотрят на седеющих, опухших от жизни пятидесятилетних мужиков, то есть забыл про свой возраст и тоже весело на нее посматривал. Она была совсем молоденькая, у нее все только начиналось. И Иван как будто был такой же, и ему, конечно же, важно было ее мнение.
Вода закипала, в котелке возник звонкий гундеж, потом зашелестело и забурлило. Сидя на пенечке, он аккуратно опускал хариусов одного за другим… Рев раздался так близко и неожиданно, что Ефимов встал с рыбиной в руках и тут же тихо сел, не веря своим ушам. Изюбрь ревел не дальше трехсот-четырехсот метров в долине, вниз по реке. Громко, но коротко прокричал. Иван ждал, он знал, что бык должен был повторить или ему должны были ответить. Пауза длилась долго, Ефимов снова встал и уставился в ту сторону, откуда раздался голос брачного зверя, от напряжения казалось, что ему все это почудилось. Но зверь снова запел.
Бык был молодой. Кричал тонко и одинаково. Ефимов, счастливый, стоял с хариусом в руках, изюбрь был так близко, что его можно было скрадывать на голос. Иван даже подумал просто так подойти… в это время за спиной, на противоположном берегу, закричал другой. Этот был круче: голос тяжелее, начал визгливо, потом раскатился грубо и широко и закончил злым предупреждающим визгом-хрюканьем. Секунды три-четыре длился его крик, раскатисто, мелодично и очень громко. Казалось, он стоит в соседних кустах. Для кого-то это была весьма понятная фраза. Молодой тут же ответил, все так же тонко и почти однотонно, Иван даже подумал, не охотник ли забрался в такую глушь, люди так одинаково манят в вабу. Опять запел тот, что за спиной, грубо сначала, потом с хриплым визгом и закончил тонко, красиво и чисто. Звук долго еще висел в холодном темнеющем воздухе.
Ефимов стоял, обомлев, они могли и сойтись, а он как раз был между ними. Третий мощно запел в горе по правую руку. Он был дальше, может, с километр, но стоял в сопке, которую видно было с косы, и слышно его было не хуже. Этот последний был самый главный. Ефимов прямо видел, как он могуче красуется, поблескивая светлыми штыками рогов… где-нибудь на скале, выступающей из леса, и слушает, как внизу кричат эти двое. Спокойно смотрит на своих двух, трех, а то и четырех матух, пасущихся рядом на склоне, и потом просто так, просто ради того, чтобы его оленухи знали, кто есть кто, начинает задирать благородную голову. Широко окрест несется грубое и недвусмысленное предупреждение. Песня его идет из утробы, она как будто и не очень громка, но это не визг драчливой ярости и не вопль раздираемого страстью молодого, это почти музыка. Ясная музыкальная фраза, обращенная к нежным слушательницам…
Уха кипела вовсю, пенилась через край, Иван отодвинул неурочно разгоревшиеся чурки. Плеснул виски в кружку.
Быки продолжали реветь. Тот, что был за рекой, стоял на месте, молодой потихоньку двигался ему навстречу и подошел совсем близко к лагерю. Почти стемнело. Ефимов сидел, не подбрасывая дров, чтобы не дымить лишнего, и слушал. Сердце его сначала затрепетало от охотничьей страсти, потом унялось и пребывало в растерянности от сложного чувства. Ему посчастливилось оказаться в краю непуганой дичи. Но он не мог и не хотел стрелять.
Лет двадцать назад, здесь же, на Лене, ниже заповедника это было, охотились они с Трапезниковым на реву. Первый день той охоты Ефимову на всю жизнь запомнился.
Ночевали в деревне, а утром, потемну еще, вышли пробежать, как говорил Владимир Петрович, по окрестным сопкам. Впереди он в суконке, сапогах, с пустой панягой за плечами и кедровой трубой под мышкой. Сзади Ефимов с ружьем. Тайга серая, застывшая, моховая тропа за ночь подмерзла, по болотцам лед… На первую сопку заползли, Петрович кончик трубы помуслякал, чтоб лучше, с хрипом звучала, склонил голову набок, вставил кончик в угол рта, трубу к самой земле опустил и, задирая ее к небу, сильно потянул в себя воздух. У-у-у-оу-оу-у-у! — разнеслось эхо по сопкам… Потом еще пару раз позвали, но никто не откликнулся поблизости. Вдали только пели.
К одиннадцати они намотали десятка полтора километров, подустали и шли по тропе высоким сосновым бором, довольно чистым, к ручью, о котором знал Петрович, чтобы пообедать и отдохнуть. Рябчик взлетел и сел неподалеку, Иван показал на него Петровичу, сварим, мол, на обед. Петрович шел и думал о чем-то, посмотрел в сторону рябчика:
— Ну давай… А если бык рядом? — добавил вдруг.
— А ты крикни, если не отзовется, я стрельну. — Иван присел на валежину. Он так устал, что всякую остановку приваливался куда-нибудь.
Петрович оглядел место, явно не собираясь «петь», он любил кричать с вершин.
— До ручья с километр остался… ну давай, — вдруг согласился Петрович и стал прилаживать трубу в угол рта.