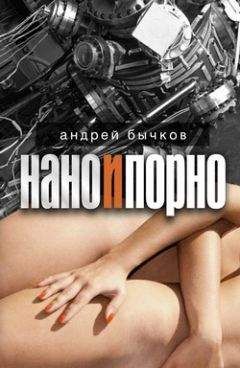Мария Романова - Подростки бессмертны
А в тот момент я сгорала от стыда. Вдруг меня все примут за маменькину дочурку, и они не захотят иметь со мной дело? Я ненавидела родителей за это унижение от всей своей подростковой души.
Тем временем папа грубо схватил меня за шиворот, и, несмотря на активное сопротивление, поволок на улицу, подгоняя пинками и подзатыльниками, а в квартире повисла гнетущая тишина, в которой послышался чей-то короткий смешок, что было еще унизительней.
— На поляну приходи, — украдкой шепнул мне кто-то. Поляной они называли свой излюбленный живописный скверик, служивший местом встреч.
Дома меня ждала серьезная взбучка. Папа, чье негодование ранее сдерживалось либеральной мамой, наконец взорвался. Я видела его разъяренные глаза, налитые кровью, и не на шутку перепугалась — даже протрезвела.
— Ах ты, дрянь, мать бы пожалела! Надо было сразу тебе пиздюлей дать, как только Ольге Ивановне нагрубила, сколько можно твои выходки терпеть! — с этими словами папа, уже тащивший меня за волосы, швырнул мое легкое тельце в ванную, придав ускорение грубым пинком в спину, отчего я больно ударилась головой об стену.
— Папочка, ну не надо, ну пожалуйста, — причитала я, боясь физического насилия больше всего на свете.
Продолжая наносить тяжелые удары, папа включил ледяную воду, запихнув меня под обжигающе-холодную струю.
— Быстро смывай свою раскраску, и чтоб с такими волосами я тебя больше не видел! — тем временем мама тщетно пыталась оттащить его от меня, всхлипывая и причитая.
Еще попинав меня немного, папа наконец слегка остыл. Так и бросил, рыдающую в ванной, а мама все продолжала причитать.
А ночью я услышала то, что не забуду никогда. Родители перешептывались в соседней комнате, но стены хрущевки служили плохим звукоизолятором, и мне удавалось разобрать слова.
— Знаешь, я ведь ее ненавижу, — печально сказал папа, — я такую дочь совсем не хотел. Лучше б ее не было.
Мама пыталась его как-то успокоить, а мне стало по-настоящему не по себе. Папка, как же так? Мы ж были в детстве лучшими друзьями! Ты мне приносил «заюшкины подарочки», а я верила, что этот зайка и вправду есть, и мечтала с ним познакомиться. И мы строили с тобой пещеры в сугробах, и ездили в лес по ягоды, и ты читал мне охотничьи рассказы перед сном. А теперь… Неужто ты меня и вправду ненавидишь?
Это унижение и обиду я уже не могла простить. Мне хотелось то покончить с собой от беспомощности, то желала смерти родителям. Но что еще я твердо для себя решила — это оправдать звание «панкушки», за которую меня на тусовке все приняли, и идти до конца, чего бы это не стоило. И, конечно, победить ненавистных родителей.
14
Останавливаться после побоев я и не думала, продолжая как ни в чем не бывало носить свою умопомрачительную прическу и по-прежнему прогуливая школу. Мама как всегда сумела смягчить папины вспышки гнева (вообще-то, он очень добрый человек, только иногда вспыльчивый до такой степени, что теряет над собой контроль). Я победоносно глядела на него, а он лишь гневно зыркал в мою сторону, сдерживая негодование.
Мне даже удалось вытребовать право без уговоров ходить на вписки и сейшены, наевшись тараканьей отравы после очередного запрета и выволочки.
Я искренне полагала, что это убьет меня, и родители будут горько плакать, но меня лишь основательно прополоскало.
— Я не ваша собственность! — гневно кричала я растерявшейся маме, искренне ненавидя обоих родителей от всей своей подростковой души.
После того случая родители вроде сдались. Было лишь условие, чтобы я говорила свой адрес пребывания. Мама, которая уже научилась идти на диалог (видя его единственным приемлемым способом воздействия, т. к. взбучки делали только хуже), сумела убедить, что это для моей же безопасности: если что случится, чтоб знали, где меня искать. Тогда я согласилась с доводами разума.
Уже стала почти своей на тусовке, перезнакомилась с основным составом и изредка участвовала в ролевых играх.
За Вадиком, будучи влюбленной по уши, я откровенно бегала. Часто заходила к нему в гости вместо школы, по пьяни приставала с поцелуями (трезвой у меня не хватило бы на это смелости). А он, будучи слишком добрым парнем, не посылал меня открыто, стараясь просто мягко отмазаться. Это было мучительно, мои неумелые попытки завоевать его сердце были настоящим актом мазохизма. Но я не могла ничего с собой поделать: слишком сильно влекло к нему.
Тем временем основной моей задачей было стать «настоящим панком», какое-то самоопределение, принадлежность к особой культуре виделась мне жизненной необходимостью (неужто недостаточно быть просто человеком? Тогда было недостаточно). Кто такие панки, я не до конца понимала. Знала лишь общие (наверняка выдуманные кем-то) характеристики: нужно было слушать определенную музыку (Sex Pistols, Exploited, Гражданскую Оборону, на крайний случай Короля и Шута, также в почете был Сектор Газа). Считалось, что панк обязан быть анархистом, что это такое — я смутно представляла, вроде как отказ от всех правил и норм поведения, отрицание любой власти (например, родительской). Еще был стереотип, что панк не должен мыться и вообще обязан склоняться к девиантному поведению. И, конечно, определенный дресс-код отличал панков от простых смертных.
Все эти догмы я принимала за чистую монету, и, считая образцом поведения, старалась соответствовать, как всегда действуя от души: честно ходила грязной, избегая душа, пила не просыхая, гадила в подъездах, не брезговала бычками, найденными на улице, когда сигарет не было. Я искренне верила, что так и надо себя вести, часто перешагивая через брезгливость. Неудивительно, что у Вадика я вызывала отвращение, хотя тогда не понимала этого. Мне казалось, что такая «безбашенность» наоборот должна нравится на тусовке всем без исключения. Ну не идиотка ли?
Тем временем Оля с Викой от меня потихоньку отдалялись: даже для них мое поведение начинало казаться странным. Вика продолжала тусоваться с фанатами Мумий Тролля и Земфиры, а Оля нашла новую подружку в школе — быдловатую и самоуверенную мажорку Юлю, а я ревновала и в душе обижалась: «Оля, ну как ты могла променять меня, непонятую и глубокую, на это хабалку?»
— Прикинь, мне химичка такая говорит, — гордо рассказывала эта кошмарная Юля в школьной курилке, — типа двойку тебе за контрольную. А я ей, типа вы не боитесь домой-то ходить, мало ли что с вами может случиться, — перед всем классом намекала она на расправу над учительницей. Мне же от ее слов было как-то противно, даже для меня подобные угрозы учителю были немыслимы. Оля же уверяла, что у Юли очень добрая и ранимая душа, во что верилось с трудом.
В школе тогда появилось новое веяние среди «элиты»: героин — это считалось невероятно круто. Героин был прерогативой «гоповского» мира, среди ниферов же он не сыскал популярности (видимо, из-за относительной дороговизны), у нас властвовал «демон-алкоголь». А моя недавняя защитница Катя, являясь самой авторитетной фигурой школы, просто не могла остаться в стороне от новой моды. Но пока она ширялась лишь от случая к случаю.
Одновременно мы начали немного сближаться с Василисой, несмотря на огромную разницу в возрасте: оказалось, что она живет неподалеку, мы часто возвращались с игр вместе, а иногда она просила выгулять своего бурят-монгольского волкодава Бьёрна. Я с детства до смерти боялась собак (лет в пять покусала овчарка), но с Бьёрном, к моему удивлению, мы сдружились. А он даже Василисину маму к себе не подпускал, но ко мне отнесся покровительственно, считая несмышленым ребенком. Эта была единственная собака-друг в моей жизни.
— Вот знаешь, за что я тебя люблю, — призналась как-то Василиса. Я была сильно удивлена подобным заявлением, — ты на меня в детстве похожа.
Как же похожа? Василиса могла заткнуть за пояс любого — не то, что я. Хоть в тусовке она уже и считалась «старухой», и практически не появлялась нигде, кроме игр, о ней до сих пор ходила молва: она слыла задирой и агрессором, некоторые помнили ее жестокие расправы над несогласными, за что «молодняк» ее побаивался и ненавидел. Честно говоря, я тоже ее побаивалась, но больше уважала. Она была для меня непререкаемым авторитетом. Восхищали ее живой ум и умение зрить в корень, понимать суть вещей, ироничность и остроумие. Общаясь с ней, я казалась себе непроходимой тупицей и неудачницей, не умевшей завоевать уважение окружающих.
— Эх, да какие вы панки, — насмешливо говорила она, поедая соленую мойву, на которую я брезгливо морщилась, — че ты ее так берешь двумя пальцами? А что это у тебя за нарочно порванные джинсы? Сильно старалась, небось? Вот мы-то джинсы до дыр занашивали, а не рвали специально, — в ее голосе послышались ностальгические нотки. А я дико засмущалась, что опытная Василиса усомнилась в моей истинной принадлежности к панк-культуре.