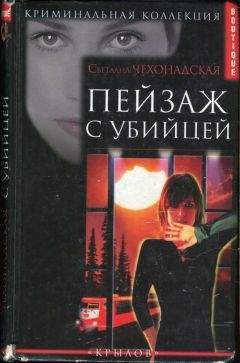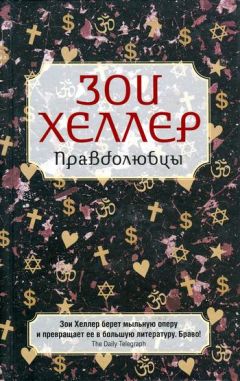Зои Хеллер - Правдолюбцы
Джоел неподвижно лежал на кровати, седые волосы липли к черепу влажными желтоватыми прядями, из широких рукавов больничной рубахи, словно языки колокола, торчали узловатые руки. В глубине души — в той ее части, где Роза оставалась ребенком, — она надеялась, что отец силой духа одолеет телесный недуг. Она воображала, как он сядет в постели, примется балагурить и укрощать медперсонал в привычной манере громогласного командира. Но в этом полуживом, веснушчатом существе Роза не узнавала своего отца; все, что было ее отцом, куда-то подевалось. Это был не Джоел, но облаченный в застиранную больничную робу еще один новобранец несметной армии больных и умирающих.
— Ты уверен, что все это тебе пригодится? — игривым тоном спрашивала Одри, имея в виду трубки, густо облепившие череп, рот и запястья Джоела. — По-моему, ты просто решил выпендриться… — Не закончив фразы, она набросилась на Карлу: — А ты чего ухмыляешься?
Роза взглянула на сестру. Угодливость Карлы не обходилась без побочных осложнений, и одним из них было бессознательное подражание окружающим: она имитировала выражения лиц, а иногда перенимала обороты речи и акцент. Сейчас сестра с таким увлечением наблюдала за тем, как их мать натужно изображает оптимизм, что физиономия невольно расплылась в глуповатом жалостливом веселье.
— Прости, — попятилась Карла. — Я не хотела…
— Бог ты мой, — прошипела Одри, — завязывай краснеть, как отшлепанная задница. Уж кто-кто, а ты должна знать, как ведут себя у постели больного.
— Отстань от нее, мама, — тихо сказала Роза.
Одри продолжала испепелять взглядом Карлу:
— Давай, поговори с ним!
— Мама, оставь ее в покое, прошу тебя, — повторила Роза.
— Что ты сказала? — Одри выпрямилась во весь рост и обернулась к младшей дочери.
— Ты срываешься на Карле. Это несправедливо.
— Все хорошо, — пробормотала Карла, — честное слово…
Одри сложила руки на груди:
— Выходит, ты осчастливила нас своим присутствием только затем, чтобы поучить меня хорошим манерам?
— Я лишь говорю, что необязательно быть такой сукой, Карла этого не заслуживает, вот и все.
— Не ссорьтесь, — чуть не плача попросила Карла.
Одри шагнула к Розе:
— Ты назвала меня сукой?
— Я только… — Нижняя губа Розы мелко задрожала.
— Пошла вон, дрянь! — взвизгнула Одри.
Роза не шевелилась.
— Ну же! — заорала ее мать. — Катись отсюда!
Роза медленно направилась к двери.
— Вот-вот, проваливай! — крикнула Одри, когда Роза выходила из комнаты. — Хотя бы от одной дуры отделались!
Пока Роза была в больнице, прошел дождь, и, когда она шагала к метро, кипя от возмущения и переизбытка эмоций, деревья на Генри-стрит роняли ей на голову ледяные слезы. Ее мать невыносима. Невыносима. На старости лет Одри превратилась в деспота-параноика, который в любом пустячном неповиновении видит зародыш масштабного бунта. Ты бросаешь в нее камешком, она отвечает огнем из гаубицы. Того, что случилось в больнице, Роза ей никогда не простит.
Она свернула на Кларк-стрит, и тут зазвонил ее мобильник. Звонил Рафаэль из Центра для девочек.
— Ты как? — спросил он. — А твой отец?
— Трудно сказать. Он все еще без сознания.
— Фигово. Хочешь, я приеду в больницу?
— Нет. Я иду домой. Мы с матерью поругались, и она меня выгнала.
— Что?
— Она измывалась над Карлой, я попросила ее прекратить, и она взбесилась.
— Она тебя выгнала?
— Ну да.
— Бедненькая Ро. Хочешь, я приеду к тебе?
— Не-ет. Я собираюсь лечь спать.
— Точно?
— Да, точно. Слушай, я сейчас вхожу в метро. Так что до завтра.
Выключив телефон, она ощутила смутное недовольство собой. Рафаэль мгновенно принял ее версию событий, но эта безоговорочная вера лишь породила сомнения. Проходя через турникеты, спускаясь в почерневшем от времени лифте, она уже чувствовала, как греющая душу ярость гаснет под натиском раскаяния. Не надо было затевать ссору с матерью — по крайней мере, не у постели тяжело больного отца. Она вступилась за сестру, что, конечно, похвально, но, с другой стороны, Карла не просила о заступничестве. И она назвала мать сукой! Она, которая гордилась тем, что никогда не употребляет это гадкое сексистское слово. А теперь из-за глупой детской выходки ее изгнали из палаты отца именно тогда, когда он более всего в ней нуждается.
Поезд подошел сразу, как только Роза ступила на платформу. Вагон был обклеен рекламой страшноватого на вид доктора Зет, манхэттенского дерматолога со светящейся кожей. Под размноженным взглядом докторских печальных глаз она размышляла о своих прегрешениях.
Чувство вины — не абстрактного стыда, который якобы обязан испытывать каждый белый богатый американец, но подлинной личной вины — появилось в эмоциональном репертуаре Розы совсем недавно. Прежде непререкаемые истины социалистических убеждений надежно оберегали ее от угрызений совести. Претензии морального толка адресовались другим — одноклассникам, не устоявшим перед соблазном полакомиться южноафриканскими фруктами, знакомым по колледжу, недостаточно озабоченным судьбой ангольских борцов за свободу, и, разумеется, родителям, законченным буржуям, которые только прикидываются кристально чистыми социалистами. Когда она была подростком, отец часто говорил ей, что хорошо бы умерить революционный пыл, если речь заходит о человеческих слабостях.
— Совершенны лишь идеи. Люди — никогда, — втолковывал он дочери. — С возрастом ты научишься прощать людей.
Но Роза отвергала попытки модифицировать ее праведный гнев. Человеку, столь глубоко переживающему несправедливость и неравенство, столь преданному идее переустройства мира, определенная степень безжалостности абсолютно необходима, полагала она. Отцу она неизменно отвечала цитатой из Ленина, оправдывавшего тактику большевиков: «О каком гуманизме может идти речь в этой невиданной яростной схватке? Какой мерой измерить допустимость ударов, наносимых в бою?»
Однако райская эпоха праведности завершилась. После долгой, изнурительной битвы между доводами и контрдоводами Роза отказалась от своей политической веры и сдернула завесу, плотно скроенную из теоретических доктрин, сквозь которую она прежде взирала на мир. Впервые в жизни она прокладывала себе путь не по звездам революционных принципов. Но уничижение, которому она себя подвергла, угнетало ее куда меньше, чем внутренняя опустошенность. Раньше она воображала, что марширует в авангарде истории, как те мускулистые героини на советских конструктивистских плакатах. Теперь же она отброшена назад, на гнусные задворки буржуазного либерализма. Она стала еще одной поборницей добрых дел, которая возит девочек из неблагополучных семей на музейные экскурсии, как будто музеи способны что-то изменить в их жизни. Роза не хотела — да и не могла — вернуться к прежним иллюзиям, но как же ей не хватало той уверенности в себе, какую она излучала, когда пребывала в их власти!
На Сто десятой улице Роза вышла из поезда и, глянув на часы, быстро зашагала по Бродвею к Амстердам-авеню, в синагогу Ахават Израэль. Вечерняя молитва только началась, когда она вошла в здание. При входе, между двумя гигантскими знаменами, израильским и американским, стоял человек, раздавая прихожанам Пятикнижие и молитвенники. Обогнув его, Роза двинулась по сумрачному коридору. В конце коридора была лестница, которая вела на галерею — место, отведенное сугубо для женщин. В этот вечер кроме Розы на галерее была только одна женщина — пожилая дама, покрывшая голову чем-то оборчатым, напоминавшим чехол для кресла. Встав у перил, Роза посмотрела вниз, где горстка стариков мерно покачивалась в такт молитве.
Впервые она забрела в Ахават Исраель три месяца назад. Субботним декабрьским утром, проходя мимо, она заметила двух мужчин в черных шляпах, нырнувших в главный вход, и решила последовать за ними. Порыв был продиктован скорее легким туристским любопытством, нежели духовными потребностями: прежде она никогда не бывала в синагоге, и ей показалось забавным выяснить, как молятся верующие евреи.
Стоило ей войти, как она совершила серьезный промах, усевшись там, где места зарезервированы для прихожан мужского пола. Святилище охватил нервический переполох, который закончился тем, что двое раскрасневшихся мужчин подхватили Розу под руки и отвели наверх, на женскую галерею. Решив, что уже достаточно ознакомилась с древними табу и культовыми нелепостями, Роза собралась уходить. Но на галерее она оказалась в гуще молящихся женщин; пробираясь к выходу, она бы снова привлекла к себе внимание, чего ей совершенно не хотелось. Смирившись, она высидела службу целиком.