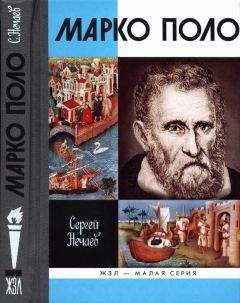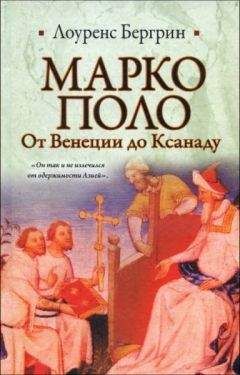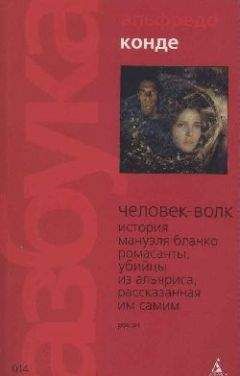Альфредо Конде - Ноа а ее память
Вскоре после переезда я узнала, что это был дом, в котором жили мои бабушка и дедушка по отцовской линии. На верху лестницы, что вела, что и теперь ведет на третий этаж, висели и теперь висят две картины, на которых на темном фоне выделяются два бледных лица; если приглядеться, можно различить также складки одежды, контуры штор, очертания рук и такие же бледные кисти, как бы безвольно покоящиеся на фоне полной темноты, очевидно, на коленях в одном случае и в воздухе у подлокотника дивана — в другом. Возможно, все объясняется недостаточным, при всей важности этого места, освещением лестницы, но я все же больше склонна искать причину в плохом качестве художественного изображения достопочтенной четы, увековеченной на портретах: это мои бабушка и дедушка по отцовской линии. Когда отец рассказывал о них, у него дрожал голос, и он обещал мне, что когда-нибудь мы съездим на кладбище, где покоятся их останки. Именно в тот день, когда я узнала о своих родных со стороны отца, он объяснил мне, как я должна обращаться к господину епископу во время его официальных визитов.
По мере того, как фотографии приближаются к нам во времени, они утрачивают свою первоначальную строгость, притворную серьезность и постепенно приобретают естественность, которой лишали их съемки в фотоателье. У меня есть фотография дедушки и бабушки; он стоит, опершись рукой о высокую деревянную подставку на четырех ножках, с которой каскадом спадают листья какого-то растения, а она сидит в кресле-качалке и вяжет. Фон белый, и там нет ничего, что могло бы подсказать мне, какие вещи они любили, какими гордились, а какие вызывали у них грусть, каким светом был освещен их любимый уголок и каким именно был этот уголок. Разве что ироническая улыбка моей бабушки, как будто говорящая: «Это все не имеет ко мне ни малейшего отношения», — наполнена жизнью и несколько оживляет застывшую, неестественную позу дедушки, подавляющего на своем лице желание убежать. Самые смелые из фотографий того времени изображают моего деда лежащим на траве с ромашкой или соломинкой в зубах или мою бабушку, опирающуюся спиной о ствол дуба.
Я часто спрашиваю себя, что было бы со мной, какой я была бы сегодня, не живи я тогда в том доме. В нем я столкнулась с неуловимой реальностью того, что у меня есть корни, а кроме того, там я смогла угадать, какими были те любимые уголки, что скрывали от меня фотографии; там я могла лишь слегка приоткрыть ставни так, чтобы неяркий свет проникал в кабинет, или вдыхать старинные запахи, исходящие из недр шкафов, от сырых полок, на которых годами покоились книги, или из самой глубины сундуков, в которых громоздились ненужные бумаги и всякие сложные, не поддающиеся описанию приборы непонятного назначения. Очень скоро этот дом стал моим, и я ходила по нему твердым шагом, полная уверенности в себе; я перерыла его весь, от чердака до подвала, от сада до библиотеки; постепенно я многое узнала о семье моего отца, и во мне стало возникать чувство причастности, которое теперь кажется мне непременным условием формирования личности. Я как будто соединяла одну вещь с другой, одно открытие с другим, причины со следствиями. Едва узнав о том, что у меня есть дядя, я тут же захотела выяснить, известно ли ему что-либо о моем существовании. Узнав, что дом, где мы жили, принадлежал бабушке и дедушке, я сразу же захотела выяснить, будет ли он принадлежать мне, имеют ли мои двоюродные братья права, которых лишена я, и нет ли еще домов, которые можно было бы отдать им, поскольку я хотела получить именно этот. Детское любопытство, овладевшее мною, было жестоким и холодным, оно было эгоистичным; я знала, что от рождения лишена многих вещей, которые уже начинала любить гораздо более пламенно, чем в случае, если бы я могла считать их своими, и у меня вдруг возникла такая насущная необходимость приобщиться к ним, что я могла бы стать их полноправной хозяйкой через одно только познание и любовь. Когда я узнала, что дом считался чем-то вроде второстепенной собственности и использовался для того, чтобы проводить в нем лето или долгие городские межсезонья, я почувствовала себя обманутой, но поделать уже ничего было нельзя: этот дом стал моей единственной любовью, которую нельзя было заменить ничем другим.
Когда я расспрашивала своего отца обо всех тех вещах, о которых я только что упомянула, что-то сильно трогало его душу, я в этом уверена; это было заметно по блеску глаз, по подчас запинающемуся ответу, по состраданию, которое иногда вдруг возникало у него непонятно откуда. Его визиты стали теперь более частыми, гораздо более частыми, чем когда мы жили в М. Иногда он приезжал с кем-нибудь к обеду или ужину, но обычно один. Он входил в дом в одеждах епископа, и я с абсолютной ясностью помню, как он сделал это в первый раз; я раньше никогда не видела его в епископском облачении, если не считать той фотографии в газете; я застыла в изумлении и не смогла его поцеловать, как обычно; я робко приблизилась к нему и поцеловала его перстень, что, как меня учили монашенки, я должна была делать при встрече с пастырем душ человеческих его уровня. Это был жестокий удар для девочки моего возраста: впервые я по-настоящему осознала необычность своего положения, и что-то внутри меня заставило поцеловать ему перстень. Отец пришел в замешательство, не позволившее ему вовремя отдернуть руку и прижать меня к себе. Спустя некоторое время он спустился из своей комнаты, уже переодевшись в серые брюки и свитер, и тогда я со слезами бросилась ему на шею, считая, что теперь он свободен. После этого случая я быстро научилась, услышав гудок автомобиля, извещавший о его прибытии, выглядывать с балкона, чтобы удостовериться, приехал он один или с кем-то. В первом случае я кубарем летела вниз и целовала его у крыльца, еще во дворе, а во втором — благочестиво и как бы нехотя приветствовала его в холле.
Когда он приезжал один, я знала, что какое-то время он принадлежит только мне, ровно до тех пор, пока не появлялась моя мать и они не запирались на несколько часов в комнате. Иногда, весьма редко, он звонил по телефону и предупреждал рано утром или накануне о своем приезде, это случалось обычно, когда я была в школе. В таких случаях я знала, что он мой, как только покинет комнату, и я также знала, что, начиная с этого момента, не следует играть или смеяться, а надлежит неторопливо поговорить обо всем, что только может служить темой разговора; обо всем, кроме одного: мы с отцом никогда не говорили о религии. Никогда.
Свою роль сироты я окончательно выучила в П., и вся моя жизнь с тех пор подчинялась постоянному и дерзкому стремлению всячески выставить напоказ это свое положение, что и сейчас создает некую рефлекторную обусловленность моего поведения, впрочем, я толком не могу объяснить, в чем она состоит. Я научилась справляться с этой ролью с той же легкостью, с какой ходила по дому, рылась в сундуках и вещах, населявших чердак, или отдавала распоряжения прислуге, с которой я постепенно знакомилась: от старой Эудосии до епископского шофера, включая слуг, обслуживавших земельную собственность, принадлежавшую семье моего отца в окрестностях П.; наш дом находился не слишком далеко от этих окрестностей, от него было рукой подать и до города, и до деревни. Я достигла указанной легкости, сознательно ее в себе развивая, исходя из своего ярко выраженного чувства собственности; надо сказать, что это чувство, которое, судя по всему, тем более развито, чем более инфантильны порождающие его мозги, и которое позволяло мне бродить повсюду, ощущая себя хозяйкой дома, было совершенно недоступно моей матери. Та уверенность, которую она постоянно демонстрировала прежде, стала исчезать у нее, как только мы приехали в П., постепенно превращаясь в болезненную неуверенность, в гнетущее чувство того, что она живет там из милости. Теперь я думаю, что эту ситуацию усугубляло ощущение власти, исходившее, по всей видимости, от моего маленького существа, моего дерзкого маленького существа; и вот молчаливая покорность лет, проведенных в М., стала постепенно превращаться в циничную отчужденность, обидную холодность, тотчас же подмеченную моим отцом, который постарался со всей возможной деликатностью ее смягчить.
Постоянно усугублявшаяся холодность моей матери была заметна во многих проявлениях ее нрава, изменчивого и непостоянного, а также в ряде подчас удивлявших нас поступков. Даже и в лучшие свои времена моя мать не была ласковой, полной нежности женщиной, нет. Я не часто ощущала тепло ее объятий, слышала мягкость в голосе или чувствовала, как на мою щеку, словно голубка, нежно опускается рука; у меня была холодная и отстраненная мать, хотя я догадываюсь, что любовницей она была умелой и пылкой. Она была женщиной до мозга костей, женщиной, проявлявшей свои редкостные достоинства в те часы, что следовали за прибытием в дом господина епископа, как уже отмечала где-то в этой летописи моя память; но она была суховатой и сдержанной в том, что касалось раздачи материнских ласк и супружеских добродетелей. Она была светловолосой и холодной, и вокруг нее все жили в тоскливом ожидании неизбежных упреков и выговоров по поводу какой-нибудь невольной оплошности. По приезде в П. она вдруг стала в высшей степени взыскательной и требовательной как к себе самой, так и к управлению домом, а после двух или трех лет жизни там у нее появились головные боли, возникавшие всегда весьма кстати и позволявшие ей при любых условиях изящно, достойно и убедительно избегать встречи с моим отцом.