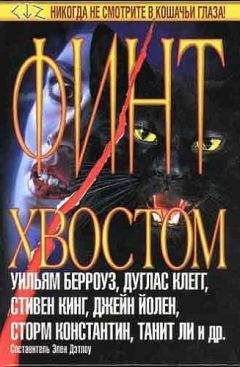Николай Климонтович - Фотографирование и проч. игры
У юноши не развита воля, он подвержен точке и мечтаниям. Ничего не умея, находит и холит в себе Призвание, и сам уж очарован тем, что у него выходит (не выходит у него пока ровным счетом ничего), а пуще — тем, что получится впредь, делит время свое (а времени у него — вагон, даже в лаборатории предоставлен самому себе) между краткими запоями вполне дилетантского творчества и длительными мечтаниями (подчас с вином и подружками — тоже свойства весьма сомнительного) о скорой награде и, как водится, признании. Вот сейчас снимки его возьмут на выставку (на какую, он их никому не показывал), опубликуют на обложке иллюстрированного журнала (какого, он их никуда не посылал), его заметят, откроется перед ним прямая блистательная стезя (не знает еще ничего о противоборстве художника и стихий, как естественных, вроде отсутствия погоды, так и вполне сказочных, исполненных то страха, то соблазна), и, разумеется, томится, рвется прочь в волны вольной профессии от постылой необходимости прозябать в фотомастерской за пересъемкой, увеличением, черно-белой печатью и ретушью; несправедлива жизнь к молодому таланту, опутывает рутинными обязанностями, унижает потребностью зарабатывать себе на карманные расходы (после отчисления из университета отец — не выдает), но и уволиться нельзя, пойти по Руси странником с фотокамерой на груди, начнут насильственно трудоустраивать, пока сюда не зачислился — участковый не раз им интересовался, — душно; сиди в темной комнате, переснимай насупленные лица с карточек паспортного размера, ретушируй, отпечатывай, вручай простоватым старушкам, которые при взгляде на твою работу тут же и зальются слезами (и чем здесь развлечься). Отчего умирают их сыновья, старушки рассказывают охотно: замерзли в сугробе, угадали попасть на производстве под пресс, каток, высокое напряжение, а в такую вот духоту и жару (горят даже за городом торфяные болота) приставляются дома под утро от остановки сердца в отсутствии опохмелки или хоть таблетки нитроглицерина (я-то ему говорила, но Лидка, Наташка, Зойка, как разошлись, только деньги давай, костюм из пенсии сама ему брала, а она права, детей тоже кормить нужно, в нем и схоронили, не успел поносить), но не всегда находятся у старушек индивидуальные фото, бывает, приходится увеличивать беззаботное лицо одного из трех четырех солдатиков, обнявшихся за плечи и талии и почти неотличимых друг от друга (снимок перед демобилизацией), а то и окаменелое с молодыми усами лицо притюкнутого парня в топорщащемся черном костюме под руку с так же замороженной Веркой, Зойкой, Наташкой в фате и белом платье (на казенном ковре в день регистрации акта их нового праздничного гражданского состояния). Сливаются эти лица для нашего юноши в одно напряженное, глаза уставлены в объектив, не сморгнут, и при увеличении, при внимательном вглядывании в само это выражение (в само отсутствие выражения), кажутся различимы (в безжизненности взора, в оторванности пуговицы у ворота) будто признаки будущей скоропостижной гибели (что ж, наш юноша прав, в том и прелесть фотографирования, что камера — соглядатай, камера — разоблачитель). И вот подсматривает он обрывки чужой, незнакомой ему жизни (и смерти) в замочную скважину своего ремесла, кажется себе первооткрывателем того, что спрятано было и от равнодушного фотографа, и от самой натуры…
Заказчики — все больше женщины: то печатаешь дачные снимки (пятилетний бутуз держит в руках белый гриб), то из туристического похода (клиентка в кедах, в обтягивающих большие ляжки штанах помешивает в котле ложкой, потом она же, обнажившись до купальника, позирует с закрытыми глазами, будто играет с фотоаппаратом в жмурки); тут и неуклюже-развязные дурищи с косметикой по прыщам (с дружками по подъездам, но эти за кадром), и милые человеческие зверьки лет восьми от роду (второй класс) с тощими косицами, с серьезными лобиками, с крепко сжатыми зубами, чтоб не рассмеяться; долговязый подросток демонстрирует попавшуюся на крючок щучку; девочка в джинсах на крыльце деревенского дома расчесывает гребешком кудлатую кривоногую дворнягу с изумленной короткой мордой; студенты босиком и в штормовках (при увеличении различимы вымпелы на рукавах — МАДИ) поют неслышимую песню, держа над гитаристом кусок полиэтилена; гладко прилизанный старший лейтенант пехоты — с чемоданом; опрятная старуха смотрит послушно, руки сложив в передник; улыбается юный демонстрант, сидя верхом на папаше и мусоля уди-уди; школьники в сапогах и нейлоновых куртках окучивают свой сад (и это единственный случай, когда любительское фото запечатлело трудовой порыв). Но каждый раз под увеличителем на периферии кадра можно разыскать множество деталей (это и есть любимая игра лаборанта), закравшихся по недосмотру, даже в центре снимка иногда — неожиданные подробности, каких не застанешь на газетных фото: поющий студент держит лапу на голой коленке соседки, мальчик готовится наставить приятелю рожки, школьники на заднем плане лишь нагло ухмыляются, опершись на лопаты и грабли, а верховой демонстрант снят на фоне портрета, причем голова седока угодила основоположнику в бороду; мужская волосатая рука, поддерживающая голого малыша, неуверенна, позади маячит другая женская, а из-под подставленной загару толстой одутловатой ляжки нахально подглядывает девица лет пятнадцати, застигнутая за чисткой картофеля или грибов, — и бесконечен этот орнамент, в глазах рябит от нерезко снятых тел, собак, лиц, растений, знамен, фуражек, и, может быть, еще не раз пожалеет самонадеянный юноша, что не оставлял себе каждого снимка по штуке, но сбросил сданные ему судьбой на руки карты; ведь мог бы позже разыграть из всех этих персонажей обширный реалистический пасьянс, сколлажировать, скажем, лейтенанта с девицей-автодорожницей, заставить демонстранта удочерить девочку в джинсах и лохматую собаку, осестрить покойного ныне солдатика, а в мужья овдовевшей Наташке ли, Верке ли подбросить ничего не подозревающего, бесшабашного до поры до времени босоногого гитариста. Но наш юноша как будто предчувствует, что это — не дело фотографа, его можно простить — юн, тороплив, занят собою, увлечен лишь своею забавой — подсматривать ненароком оброненные детали, будто в них самих по себе есть хоть какой-то замысел и смысл. К тому ж жизнь этих туманных, лишенных всяческого изящества (даже более или менее продуманного расположения в пространстве) фигур — чужда ему, далека от него, непонятна, — как, впрочем, далека и другая, элегическая, из его собственного семейного альбома. Там из коричневой дымки немыслимого прошлого из-под широких полей белых шляп спокойными чистыми глазами смотрят женщины в белых муслиновых платьях; там ослепительные перчатки по локоть, в них — стеки и веера; там никто не смущается под взглядом камеры-циклопа; там холены бороды и усы, а кителя, сюртуки, мундиры и рясы — умны, самоуверенны, безмятежны. Дымчатые поля овальны, нарядны вензеля и виньетки, и даже имена фотографов, начертанные под портретами, оперны и витиеваты. Этих дам и господ никому и в голову не приходит почитать умершими, как, глядя на маски и бюсты древних героев из учебников по истории Рима, никто никогда не думает о смерти, но лишь о подвигах, роскоши и величии. Может быть, поэтому наш юноша, получая в постель эти альбомы вместе с градусником и малиновым вареньем в дни зимней простуды, в детстве всегда полагал своих предков просто вышедшими за дверь, отступившими за кулисы жизни, однажды севшими на пароход и уплывшими неизвестно куда, но отнюдь не покойными. Но не было и моста между этими двумя жизнями: нынешней, веселой — и сумрачно-коричневатой, старинной, и юноша парит без поддержки посреди исторической пропасти (на его молодые крылья еще плохая надежда), и что он должен испытывать, как ни одиночество, — и он испытывает его.
Как ни странно, отчасти это одиночество провинциала (всякая, самая парижская юность — наша провинция), смутно догадывающегося, что где-то за незнакомыми окнами — иной и блестящий мир, но в большей мере — юношеское воспаленное чувство сиротства, постоянно ноющая пустота в том месте, где каждый помещает в душе иное, но подобное себе существо, и, кто скажет, что юноша наш был готов к любви, тот тоже не будет не прав…
Впрочем, вернемся к теме — теме подглядываний и совпадений (и только беллетристы считают последние — иронией судьбы, судьба же — не иронична, она играет в кости, чуждая как добродушия, так и злокозненности, руководствуясь лишь теорией вероятности). К ней нас заставляет обратиться все тот же групповой гурзуфский снимок, что принесла в лабораторию толстушка заказчица. Попытаемся представить себе фотографа в соломенном сомбреро, в сношенных сандалиях на больших пыльных ступнях загорелых ног; август, набережная, толпа, фоном — фонтан и корпуса санатория, построенного в большом стиле конца тридцатых годов; группа здешних отдыхающих сбилась в кучу, и молодцу в сомбреро не сразу удается обуздать это пугливое и бестолковое стадо; но вот наконец мало-мальски пристойный порядок достигнут, отдыхающие построились и пооткрывали рты, уставясь в окошко камеры; птичка выпорхнула, и фотограф отер пот со лба; теперь — увеличение: обладай наш юноша чуть большим воображением (впрочем, это лишь синоним любопытства), он задался бы вопросом, с чего бы крашеной перекисью водорода бабенке четвертой справа во втором ряду извлекать свое изображение из душноватой глянцевой прошлогодней мути нерезкого халтурного курортного фото? И зачем тиражировать немолодую Женщину в залихватски напяленной бесформенной панаме и больших пляжных очках, за которыми вовсе не видно ни глаз ее, ни меленьких черт лица, и этого вот гражданина в носках и ботинках, хоть и жарища несусветная, со стальными зубами; в одной руке у него женская пляжная сумка, другая робко водружена — ради цельности композиции, надо полагать, — на толстую шею соседки; она же — игриво напряжена, смотрит в камеру, как на стартовый пистолет, с тем, чтоб через мгновение после спуска затвора кокетливо высвободиться из неловкого объятия? Так и застыли они навеки: стыдливый охотник с ненатуральной стальной улыбкой и пугливая счастливая курочка, лелеющая свой многообещающий испуг, и какова будет судьба этих, новых отпечатков? Пошлет ли она ему их заказным письмом, тайно надеясь если не разрушить провинциальную семью пансионатского ловеласа, то хоть лягнуть его жену, напомнить о себе и о своей уступчивости (привыкли, что для них все легко и даром); или же, всплакнув (сарафанчик-то хорошо сидел, удачные были и фасон, и рисунок), спрячет в ящик комода к другим дорогим вещам, как-то: старая трудовая книжка, новая пенсионная, оплаченные еще в том году междугородные телефонные счета, книжка сберегательная, книжка платежей за коммунальные услуги, паспорт с просроченным гарантийным талоном на починку швейной машинки и несколько поздравительных открыток со знаменами, цветами и добродушным Дедом Морозом, а также чудом завалившийся старый-престарый карманный календарь с аккуратно отмеченными «днями»? Но нет, это не интересует эгоцентричного юношу, нет места средь его игр чужим сантиментам, подробностям посторонних, смешных лаборанту, немолодых чувств; он, как сеттер, обегает челноком поля негатива, с азартом подмечая, что там есть пожива: случайное сцепление голов с животами, надстройки из чьих-то локтей к чьим-то носам, многорукость одних при полном отсутствии конечностей у других тел, парение лишенных опоры предметов. Десятки очарованных островков для путешественника со вкусом к причудам и странностям мира — они при верной выкадровке и точно угаданной степени увеличения превратятся на отпечатках в страшноватые человеческие гротески, которые будет нелегко разгадать, если искать в них сходства с тем, что многие по привычке считают натурой (но, собственно, когда и заниматься этим рутинным сюрреализмом, как не в двадцать лет).