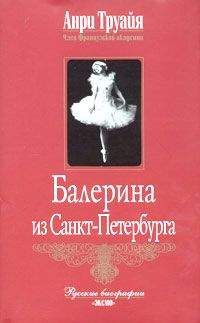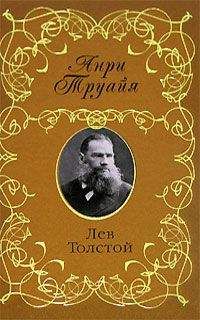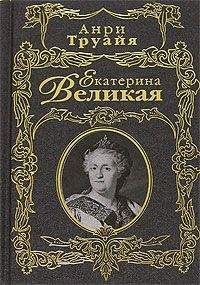Анри Труайя - Палитра сатаны: рассказы
По оценке жандармов, происшествие не было результатом злого умысла. «Короткое замыкание», — сказали они. Люсьен был иного мнения. Но в участок обращаться не стал. Накануне он получил анонимное послание с вырезанными из газеты словами: «Убирайся, а то не поздоровится». Он показал его отцу. Мартен очень испугался. Кому довериться? В Менар-лё-0 теперь не осталось ни одного симпатичного лица — сплошные рыла. Население, поголовно состоящее из народных мстителей, уверенных, что им все позволено. Откуда ждать очередного удара?
На следующую ночь Мартен трижды вскакивал, разбуженный подозрительным шумом вокруг дома. В его комнате имелось два окна. Одно выходило на юг, там простирались поля, другое, северное, глядело на улицу. Он открыл его, распахнул ставни и пристально оглядел окрестность. Темнота, тишь, неподвижность, что твоя пустыня. Высокая луна освещала новенькую колокольню. Церковь словно только что выросла из земли предков. Время потекло вспять. На дворе стояло средневековье. Снова ложась в постель, Мартен по привычке перекрестился, чтобы заклясть злую судьбу.
На другой день, возвратясь из бистро, куда он забежал покалякать с каменщиками, Мартен поднялся к себе в комнату, где обнаружил сына, роющегося в ящиках письменного стола. Когда отец вошел, Люсьен поспешно выпрямился. Вид у парня был натужно веселый и вместе с тем сконфуженный.
— Что ты тут ищешь? — жестко спросил Мартен.
Люсьен пожал плечами и хихикнул:
— Денежки!
— Мог бы попросить у меня!
— И ты бы дал?
— Это смотря на что! — буркнул Мартен с упреком.
Несколько секунд ему казалось, будто он полностью владеет ситуацией. Мысль, что Люсьен не постеснялся бы умыкнуть ту жалкую сумму на повседневные расходы, которую он хранит в железной коробке, удивила и возмутила его. Захотелось отхлестать мальчишку по щекам. Но рука налилась свинцом. Сердце не выдержало. Он сам открыл жестянку, вытащил три пятисотенные купюры и швырнул на стол.
— Ты этого хотел? — вопросил он голосом, дрожащим от негодования, презрения и слабости.
Люсьен, не отвечая, покачивался, перенося вес тела то на одну ногу, то на другую. Он еще ребенком усвоил такую манеру — покачиваться, переживая трудные минуты. Вдруг он живо напомнил отцу того карапуза, которого Аделина, делая невероятные усилия, чтобы не рассмеяться, отчитывала за то, что он стянул в соседском саду пригоршню слив. Это видение из далекого прошлого так разволновало Мартена, что он смягчился, усомнившись в непогрешимости собственного гнева.
— У тебя неприятности? — робко поинтересовался он.
— Вроде того!
— Какого рода? Фи… финансовые?
— Всякие. Мирей, конечно, может и сама выпутаться. Все так. Но я бы хотел поучаствовать, понимаешь? Хотя бы малость… Это было бы нормально, разве нет?
В общем, Люсьен считал вполне «нормальным» вытягивать у отца его сбережения, чтобы помочь любовнице. Хотя в глазах Мартена подобный ход мысли был нелеп и предосудителен, он, к собственному удивлению, почувствовал, что склонен проявить терпимость. Сын выглядел таким невинным, таким застенчивым, что, будь на месте Мартена Аделина, она бы нашла оправдания для его поступка. Значит, и ему подобает простить сына. Несмотря на самоубийство Альбера и бесстыдство Мирей, несмотря на скандал, взбаламутивший все селение. Пауза затягивалась. Люсьен уже явно полагал, что партия выиграна. И Мартен не страдал оттого, что снова уступает. Чего не вытерпишь, чтобы избежать скандальных сцен?
Главное — не допускать волнения на море, думал он, что угодно, лишь бы не эти волны, плеск и шум. Все должно быть мирно! Его идеал — не бурное море, а тихое озеро, пусть даже затянутое ряской. Неверной рукой он подвинул лежавшие на столе бумажки поближе к сыну. Проворчал как бы с сожалением:
— Ну ладно, если тебе нужны эти деньги…
Люсьен небрежно сунул в карман полторы тысячи франков и вздохнул:
— Я тебе верну их, когда мы снова будем на плаву. А то переезд так дорого стоит!
— Когда рассчитываете уехать?
— Только что Мирей еще раз звонила своей подружке. Обстановка проясняется. Думаю, мы тронемся в середине следующей недели.
— Великолепно! — кивнул Мартен. — Будем надеяться, что за эти несколько дней ничего не случится!
— А что, собственно, может случиться? — откликнулся Люсьен. — Все худшее позади. Надо тебе сказать, у меня прямо гора с плеч свалится, как только мы выкарабкаемся из этой гнусной дыры!
— И мне полегчает! — признался Мартен.
— Тебе тоже надо бы отсюда мотать.
— И куда же?
— Ну, не знаю… Да тебе где угодно будет лучше, чем здесь!
Мартен вздрогнул, будто у самого уха прожужжала пуля.
— Это… это невозможно! — выдохнул он.
— Почему?
— Меня здесь удерживает все: прошлое, друзья, могилы…
— Друзей у тебя больше нет; что до прошлого — чем меньше о нем думаешь, тем дольше протянешь; а настоящие могилы носишь у себя в голове…
— Нет, — замотал головой Мартен. — Никогда… никогда мне отсюда не уехать.
И, вытащив из кошелька три сотенные бумажки, протянул их сыну:
— Возьми… возьми еще. Тебе они понадобятся больше, чем мне.
Люсьен поблагодарил отца, поцеловал, и дверь за ним захлопнулась.
Ночь прошла беспокойно. Несмотря на поздний час, в полях при свете фар работали комбайны. Резкие порывы ветра вращали скрипучий флюгер на колокольне. Пес мадам Песту выл на луну. По всей деревне в окнах тут и там горел свет. Томило подозрение, что все эти люди, бодрствующие в Менар-лё-О, шепчутся, обсуждая в семейном кругу, как бы половчей избавиться от «Козлика».
8После отъезда Люсьена и Мирей деревня вновь обрела видимость покоя. Коль скоро болезнетворное начало извлечено из тела популяции, нормальная жизнь могла возобновить свое течение. Соседи снова здоровались с Мартеном на улице. Когда он встречался с кумушками у фургончика булочника или мясника, некоторые перекидывались с ним парой слов. Мадам Песту однажды даже соблаговолила осведомиться, нет ли вестей от сына. Смущенный таким вопросом, Мартен пробормотал, что с Люсьеном все в порядке, он, дескать, доволен новым жильем и продолжает подыскивать работу.
— А она? — наседала мадам Песту, чья приветливость заметно отдавала наглостью.
— С ней тоже все в порядке.
— Привыкает к городской жизни?
— Да, конечно…
— Булонь-Бийанкур — не чета Менар-лё-О. Хочешь не хочешь, а повадку меняй!
— Разумеется.
— Она от этого не страдает?
— Нет.
— Ну, само собой, когда пойдешь на поводу у сердца, ко всему можно притерпеться. И если я говорю «сердце», то знаю, что имею в виду. В любом случае она, видать, здорово попалась, крепко сидит на крючке. Бог ты мой, легко ли в ее возрасте удержать подле себя такого зеленого юнца, как ваш Люсьен… А вы небось часто перезваниваетесь?
— Время от времени он мне звонит.
— Но доброй беседы с глазу на глаз это не заменит.
— Разумеется.
— Бедные мы, бедные! Каждый кроит себе жизнь, как хочет или как умеет… Главное, не заедать других. Ну и, понятно, здоровье беречь…
Раздраженный этой нескромной болтовней, Мартен поторопился купить батон белого хлеба и ретироваться. Да, прямых нападок, конечно, не было, но он чувствовал: те, кто еще позавчера считали его своим в доску, насилу терпят его присутствие. Когда он проходил по деревне, ему чудилось, что дома изменились к нему одновременно с людьми. Фасады стали угрюмо-шершавыми, окна смотрели неприветливо, двери всем своим видом упрямо отказывались пустить его на порог. Даже базилика изливала потоки презрения с хотя и залатанной, но почтенной в силу своей древности колокольни, что торжественно высилась над его головой.
Тяжелее всего было проходить мимо бывшего жилища Альбера Дютийоля. Большой щит, прикрепленный над входной аркой, возвещал: «Продается. Обращаться в агентство „Маскаре“. Витроль, Почтовая улица, д. 3». Никто пока не отважился посетить заклятое место. Самого факта, что владелец покончил счеты с жизнью, повесившись в гостиной, оказалось достаточно, чтобы отпугнуть возможных покупателей. Самоубийство навсегда клеймит стены дома знаком беды. Даже Мартену временами приходилось встряхивать головой, чтобы напомнить себе: в этом мрачном строении с заколоченными ставнями некогда жил человек, исполненный знаний, фантазии и нежности. Чем больше проходило времени, тем отчетливее он сознавал, какой потерей стала для него гибель друга. Пока Альбер был жив, Мартен, конечно, очень ценил те несколько часов в неделю, что посвящались их беседам, но не ощущал, как сегодня, почти физическую необходимость его присутствия. Сам того не ведая, он был буквально вскормлен и обогрет своим соседом. Насколько мало удручала его разлука с сыном, настолько же убийственной оказалась мысль, что Альбер мертв. С этой потерей его существование напрочь лишалось смысла. Мартена терзал интеллектуальный и эмоциональный голод. Он безобразно скучал в своей норе, к тому же у него пропала тяга к чтению, а ведь прежде то, что Альбер время от времени давал ему какую-нибудь книгу, наполняло его гордостью. Тем немногим, что он знал, Мартен был обязан своему другу. Все великие люди, чьи имена и жизнеописания были ему известны — от Наполеона до Юлия Цезаря, от Чингисхана до Шатобриана, — глядели на него теперь из своего далека добрым взглядом Альбера Дютийоля. Покончив с собой, он убил в Мартене память обо всем мире.