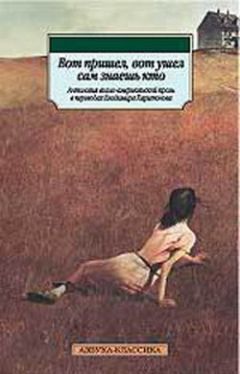Мюриэл Спарк - Аббатиса Круская
— Дегенератки они, а не ренегатки, — говорит Александра. — Уинифрида, милочка, вы у нас сущая леди: ваши высшие побуждения не подсказывают вам, что надо сходить поставить на лед белое вино?
Уинифрида удаляется озадаченная и весьма польщенная.
Тогда три монахини в черном, Вальбурга, Александра и Милдред, берутся за руки. И танцуют вприпрыжку: скачут в одну сторону, потом в другую. Потом Вальбурга говорит: «Тише!» — и обращает ухо к окну.
— Кто-то свистит, — говорит она.
С луга, из дальней кущи, доносится второй слабый свист. Все три сестры идут к окну и в прощальном сумеречном свете видят, как крошка Фелицата бежит по тропке, сворачивает к рододендронам и исчезает за тополями.
— Жуткая слякоть, — говорит Александра.
— Как-нибудь они и стоя не пропадут, — говорит Милдред.
— Или задом наперед, — говорит Вальбурга.
— С Фелицатой это не пройдет, — говорит Александра. — Как сказал поэт Александр Поп:
Ей добродетель — сущее терзанье,
Благопристойность — вот ее призванье.
Глава 4
Глухой и престарелый аббат Инский, которого добрые отцы-иезуиты Максимилиан и Бодуэн раз в неделю привозят слушать исповеди монахинь, прибыл в аббатство; вместе с обоими иезуитами он наблюдал за выборами и перед всей общиной провозгласил Александру аббатисой Круской. Старый аббат вручил новоиспеченной аббатисе жезл и отслужил торжественную мессу; ему помогли забраться на заднее сиденье и увезли в беспробудном сне. Простуженная Фелицата на торжественной церемонии выборов не присутствовала, а лежала в постели. Ее подруга Батильдис поведала ей о сокрушительной победе Александры, и она торопливо засунула в рот градусник: такое ее поведение с интересом наблюдали по телевидению Александра, Милдред и Вальбурга.
Но все это было и быльем поросло. Листья падают, ласточки улетают. Фелицата давно уж встала с одра болезни, упаковала чемоданы, бережно укутала свою укладку в мешковину и покинула монастырь вместе с багажом. Она осела в Лондоне со своим иезуитом Томасом, сняв квартирку близ Эрлс-Корта, и не на шутку принялась разоблачать.
— Ах, — говорит Валыбурга, — если бы полиция взяла в оборот этих двух балбесов-семинаристов, которые вломились в монастырь, она бы не могла делать публичных заявлений, пока не кончится следствие.
— Полиция тут вообще ни при чем, — говорит аббатиса в нынешнем своем белоснежном облачении. — Репортеры и епископы — вот беда. А полиция просто не хочет мешаться в историю с католическим монастырем: хлопот не оберешься.
Милдред говорит:
— Дело было так. Два юных иезуита, ныне исключенных из семинарии, прослышали, что есть у нас одна такая монахиня...
— Фелицата, — говорит аббатиса.
— Она, — говорит Вальбурга.
— Да. Монахиня, которая устраивает сексуальные игрища, скажем, даже обрядовые, и всячески проповедует эти безрадостные занятия... Ну, прослышали об этой монахине и пробрались в монастырь, понадеялись, что Фелицата с какой-нибудь подружкой...
— Скажем, с Батильдис, — прикидывает Вальбурга, вся превратившись в слух.
— Да, конечно, Фелицата с Батильдис, что они не откажут парням.
— Так и было, — говорит аббатиса. — Не отказали.
— И семинаристы забрали с собой наперсток...
— На память? — говорит аббатиса.
— Может, как сексуальный символ? — предлагает Милдред.
— Не вижу сценария, — говорит аббатиса. — Зачем тогда Фелицата на другое утро шумит про наперсток?
— Как же, — говорит Вальбурга, — ей просто хочется, чтобы ее похожденьица были у всех на виду. Они любят насчет этого похвастаться.
— Тогда, — говорит аббатиса, — позвольте подумать вслух: зачем ей на другую ночь при виде их вызывать полицию?
— Может быть, они ее шантажировали, — говорит Вальбурга.
— По-моему, не клеится, — говорит аббатиса. — Никак не клеится. А эти парни — каковы их ненавистные имена?
— Григорий и Амвросий, — говорит Милдред.
— Могла бы и сама догадаться, — почему-то говорит аббатиса[19].
Они сидят в ее приемной, и она касается Пражского Младенца, ризы которого сплошь испятнаны драгоценными камнями.
— «Санди пипл» на этой неделе писала, что они назвали Максимилиана — Бодуэна пока нет, — будто бы они действовали по его указанию, — говорит Вальбурга.
— Что пишет «Санди пипл», совершенно не важно. Как мы объясним дело — вот о чем речь, — говорит аббатиса.
— Положим так, — говорит Милдред. — Эти парни, Григорий и Амвросий...
— Имена мешают, — говорит аббатиса. — Сбивают с толку.
— Хорошо, просто два иезуита-послушника пробрались ночью в монастырь, чтоб найти себе пару монахинь, любых монахинь...
— Только не в моем аббатстве, — говорит аббатиса. — Мои монахини выше подозрений. Кроме Фелицаты и Батильдис, которых выдворили. Фелицату, кстати, еще и отлучили. Я не потерплю, чтоб говорили, будто у меня такие общедоступные монахини, что юнцы-иезуиты входят в наши врата с известными намерениями.
— Они вошли через садовую калитку, — рассеянно поправляет Милдред, — которую Вальбурга отперла для отца Бодуэна.
— Это вы так пошутили, — говорит аббатиса, указывая на Пражского Младенца, вместилище самого мощного микрофона в приемной.
— Не беспокойтесь, — говорит Вальбурга, обращая к Пражскому Младенцу широкую улыбку на суровом продолговатом лице.
— О микрофонах никто, кроме нас, не знает, а Уинифрида, бестолочь, мало что понимает. Не беспокойтесь.
— Меня беспокоит Фелицата, — говорит Милдред. — Вдруг она догадается.
Вальбурга говорит:
— Ей всего-навсего известно, что наша электронная лаборатория с ее обслугой обеспечивает контакты с новыми миссиями, которые по всему свету основывает Гертруда. Сверх этого она ничего не знает. Так что не беспокойтесь.
— Не надо меня успокаивать, — говорит аббатиса, — потому что я и так никогда ни о чем не беспокоюсь. Беспокойство — удел мещан и больших художников в те часы, когда они не спят и не творят. Аристократам духа беспокойство чуждо, равно как, вероятно, и голодающим на пороге голодной смерти. Не знаю почему, но я все время размышляю о голоде и голодающих. Сестры, слушайте секрет. По мне, лучше иссохши от голода сгинуть в какой-нибудь африканской или индийской пустыне, смешаться с сухой землей среди издыхающих скелетов, чем пойти к психиатру, как, я сегодня слышала, пошла Фелицата, лечиться от душевного беспокойства.
— А она пошла к психиатру? — говорит Вальбурга.
— Бедняжка, у нее пропал серебряный наперсточек, — говорит Александра. — Во всяком случае, она объявила по телевизору, что залечивает психическую травму, вызванную отлучением от церкви из-за греховной связи с Томасом.
— А что тут может поделать психиатр? — интересуется Милдред. — Ее же нельзя доотлучить или разотлучить.
— Ей надо примириться с мыслью об отлучении, — говорит аббатиса. — Так объясняет дело сама Фелицата. Еще много было всякого пустозвонства, но я выключила телевизор.
Колокол звонит к вечерне. Аббатиса с улыбкой встает и возглавляет троицу.
— Трудно не тревожиться, — говорит Милдред, проходя в дверь вслед за Вальбургой, — когда в миру о нас идет такая молва.
Аббатиса приостанавливается.
— Крепитесь! — говорит она. — Крепкие духом знают, что благодатью, негаданно ниспосланной, победится всякая тревога. С тем вы и возносите псалмы; возношу и я — часто, правда, переходя на английскую поэзию, ибо к ней лежит мое сердце. Сестры, бдите: у каждого свой источник благодати.
Место Фелицаты пустует; Уинифриды тоже нет. Совершается вечерня, и в стенах аббатства царит покой: на исходе последнее мирное воскресенье этой осени. В среду на будущей неделе монастырь будет патрулировать полиция, днем так, а ночью с собаками, за ней пресса, фотографы и телерепортеры станут ходить, яко лев, рыкая, иский кого поглотити.
— Сестры, трезвитеся, бодрствуйте.
— Аминь.
Снаружи тишь, и шелестят деревья; это последнее октябрьское, последнее спокойное воскресенье.
Счастлив человек щедрый и милостивый, который поступает по справедливости.
Он вовек не поколеблется: в вечной памяти будет праведник.
Он не убоится скорбных вестей: сердце его твердо, уповая на Господа.
Холодный чистый воздух часовни полнят приливы и отливы грегорианской музыки, истинные голоса сестер, отработанные ежедневной практикой под руководством регентши. Все в сборе, кроме Фелицаты и Уинифриды. Аббатиса в свежайшем облачении стоит перед своим креслом, внимая повышениям и понижениям антифонов.
Блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем: ибо они Бога узрят.
Недвижна, как обелиск, стоит пред ними Александра, глядя на дело рук своих и рук аббатисы Гильдегарды прежде нее; и видит, что это хорошо, и готова об этом свидетельствовать. Губы ее шевелятся невпопад, как в дублированном фильме: