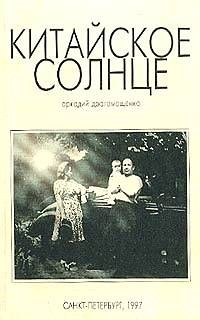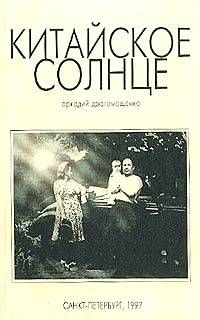Аркадий Драгомощенко - Фосфор
Снега исполнено яблоко, как и полынь, поившая рот, расправляя ростки в каждую клетку незримого, пульсирующего за порогом зрения, но дрожь чья отзывалась в орнаменте знания, уже всегда опережавшего то, что лишь предощущалось. Леса утрачивали смерть, однако ни единому дереву не довелось застать нас, поскольку ни единой трещины, ни единого зазора, ни единого изъяна речи невозможно было сыскать в постоянно бывших, повторявших себя с завидным упорством машины, испорченной надеждой, сценах сотворения мира. "Время разрыва струн" в перспективе автобиографий предшествовало времени их натяжения. Инверсия. Совпадение с именем - внезапно стал отзываться - совпадение с дырой самого себя. Формы, вскрывающие формы. Чувство формы, настаивающее на вскрытии вен. Скука, ничего не вскрывающая. Лимонов прав. Но дело в том, что между описанием и письмом пролегает территория, которую не преодолеть пишущему. Его первая в жизни фраза (мной был уже однажды предпринят опыт ее описания в романе "Расположение в домах и деревьях"), записанная в возрасте 9 лет в записную книжку в горько пахнущем столярной мастерской переплете, подаренную матерью как-то вскользь, мимоходом, рассеянно: не до того (карандаш был похищен из отцовского святилища, с письменного стола, и неизвестно, что больше томило, слегка зеленоватое, рассеченное клетками поле крошечного листа, утрачивавшего свои границы в тот же миг, когда взгляд падал в его молочное, курившееся туманом зеркало, или маслянистое в камфарном благоухании кедра жало карандаша, хотя, признаться, карандаш принадлежал матери, а записная книжка была взята с отцовского стола, где она покоилась у бронзового медведя или же, возможно, все обстояло совсем наоборот - в действительности, совпадавшей с воображаемой реальностью, стояла прохладная осень, когда впервые с удовольствием надеваешь поутру теплые вещи, невзирая на то, что они совсем не по сезону, но внутри как будто что-то устало от лета и тянется к морозу, к стылому, как свет операционной, солнцу, ломкому, словно первый лед на губах, и тусклому, точно ком в горле, когда весь обращаешься во внимание, глядя, как раскалывается о стену света птица, под стать зрачку - на две линии, на линию горизонта и другую, линию кромки берега, шипящую, блуждающую, как человек с заведенными горе глазами в толпе, от которого несет застарелой мочой и привычным скудоумием, шевелящий губами, подсчитывающими все во всем, повторяющими с машинальной страстью все обо всем: лучше всего писать о том, чего не было, о детстве и о том, чего никогда не будет - о смерти, отступающей, подобно линии воды, никогда не достигающей берега, шипящей, уходящей и вновь настигающей то, что относительно незыблемо, переходя в зеркальную гладь песка, становящегося на глазах матовым, как страница, чье зеркало просыхает в мгновение ока, ничего не отражая в терпеливом ожидании нового остекленения речью, а дальше хрустят газеты, пустой пляж, скулят чайки, невнятное желание написать комулибо письмо, приклеенный к обложке крейсер, не сильный ветер, понуждающий, однако, отвернуться, увидеть слезящийся мост, дождь, фигуру, вперед склоненную в ходьбе, в отяжелевшей мокрой шляпе, когда...), вошла со снега в пуховом платке, сброшенном на плечи, снег в волосах, отстраненный холодом сладковатый сквознячок Lorigan Coty и тем же холодком потрескивающая записная книжка, в которой затем, спустя немного, ни от чего возникла первая фраза, появилась, как бы ничему не обязанная, нелепая, но и устрашающая также, потому что не только не исчезла со временем, не выветрилась с годами (как меловые скалы, раздирающие шелк Нью Йоркских отсветов с гортанным сухим треском; маятник, шорох кривых мотыльковых половодий, летящая дуга воспарения и падения...) - без малого за полстолетия, не только, но, напротив, обрела некие, совершенно странные черты неотступной, истовой притягательности: "зеленая лампа стояла на столе", - споро вывела рука, не задумываясь, процарапывая твердым грифелем бледные буквы с узкими закрытыми глазами. Сонные споры. Ветер не подхватил. И эта фраза тоже. Коснулась тогда таким образом, что сегодня стало ясно никогда не смогла бы, никогда не сможет стать историей. Она разделила на две части, как глиняная река, то, что до нее спало в неведении. Притом она могла быть другой, избрать для себя иные слова, но продолжая быть все той же, отвне и внутри, существуя по обе стороны истории, как территория между описанием и письмом, по обе стороны слова, заключая и то и другое в свою работу, превращающую меня в случай, в частность, в часть - Мойру, участь. Пожирающий жребий.
Прорезь. Почему не гвоздь? Не мокрый башмак? Не пылающая пекельным пламенем свалка автомобильной резины? В самом деле, помнится, эта зеленая лампа стояла на шатком столике у стены. Более того, за окном столовой, обращенным к северу - первый, третий, пятый - какой день кряду падал снег. Мы в состоянии выделить из текстового массива несколько групп сем в совокупности их окружений, что обеспечит поле координат, в которых производится описание и проявляются направления их наполнения. Все тише звучали голоса из кухни, где тайком от матери бабушка гадала домработнице на картах: десятка червей, выпадая с десяткой пик обещала пьяное веселье. Мягче и бесконечней в волнообразных повторах слышался, доносясь, голос матери, говорившей в комнатах по телефону, голос, отделявший берег от воды. Тише становилась россыпь телефонных звонков, отстаиваясь в голове во все ту же схему из учебника физики - некий, тщательно прорисованный треугольник вершиной кверху, а с нее, перехватывая дыхание, отвесно летит вниз шар, прикованный цепью к такому же, следующему за ним, и к такому же, ему предшествующему и вся эта карусель вращается в вечном движении вокруг треугольника, источая лиловый свет обреченности. Леса перпендикулярно уходит в воду. Воспой тончайшие инструменты опосредования - рыбной ловли. Я помню, пишет он охотно, как тонкая ниточка звона, вольфрамовая жилка тишины, жившая из одного виска в другой, внезапно лопнула, под стать силку вольтовой дуги, тающей во вспышке столь неимоверной ясности, что только тьма способна утешить этот ослепленный собою свет, как сестра, собирающая его, разорванного на части, рассеянного во чистом поле в точку своего тела; когда я/он глянул в окно, увидел окно и там (в нем, за ним, в глазах, перед) ветвящийся долу снег, за которым (либо в котором) стояли серо-черные яблони, конечно же, совершенно другие, нежели серо-черный рисунок в учебнике, а за ними забор, но так никто, мой друг, не выражается ныне, а возле - живая изгородь акации и жимолости, уличные клены и канавы, столб с фонарем (все это утратило смысл и движется мной по нити совершенно нагими бусинами), изрытый снизу доверху "когтями" электромонтеров и источающий разительно летний запах полуденных станционных путей, уходящих на юг, в ковыль, и тогда казалось, что в комнате слышен ржавый скрип жестяного фонарного колпака, ночного флюгера, в купели которого еженощно тлела простая, ничего не освещавшая под собой лампочка, никому не нужная в том городе, как и сам город. И многое другое, умещенное на острие иглы того, из чего слагалось мое тело, восходя и будто скользя себе навстречу, расстилая волокна собственной яви, - как на замерзших окнах, - то есть, слагаясь в неубывающую (вместе с тем отстраняемую все далее) телесную жизнь, заплетаемую или же расплетаемую на желание и терпение, на нетерпение и оцепенение: порог вещей, да? где вымывает из сита разума крупицы эхо, шедшего в меня же самого, пишет он, летевшего с разных сторон, в меня, которого ты позже "обводила" руками, как перо невидимые очертания букв, бьющихся в нем, начиная с концов пальцев вытянутых рук и до щиколоток, стоп, ногтей, руками, которым путь открывали губы и шепот, жегший дыханием, дна которому не было, как если бы не было затылка, а только две горячих рыбы бились бы друга о друга, - или помещала в свое описание, потому что не может быть, чтобы ты не описывала себе меня, когда в том, казалось бы, не было никакой необходимости. Больше всего говорим в постели, когда одни, немногословные. Что несется или остановилось перед твоим взором, что удается запомнить из того и вернуть мне?
Но фраза, выведенная рукой, к которой не применимо "вспять", использовавала первое, что подвернулось ей: слова, как бы имевшие отношение к находившемуся перед глазами, в них самих, в сознании, до эта фраза, это мерцающее, ни что не обещающее предложение-приглашение (да, и тогда тоже) вкрадчиво обволокло понимание самого себя, словно вошло с другого конца - а по-иному мне не объяснить. Тема искренности звучит требовательнее и строже. Письмо. Движение Торкватто Тассо по карте. Пристанище сменяет пристанище, и сознание неуклонно утрачивает смерть, под стать лесам, истощенным лисьим огнем, пляшущий отпечаток которого возвращает мысль о ребенке, неотрывно глядящем в костер, постигающем, что у него, у огня, отсутствует тень и нет центра, от которого уносит по кругам голову, как волны возвращаются в море, и уносит не от центра (только потом, много спустя однажды, утром, когда на минуту оцепенеет, не отрываясь от подрагивающего курсора, вспомнив о школе зимним пасмурным утром, ему придет в голову сравнить мотылька Чжуан цзы с мотыльком шейха Мухиддина Ибн Араби - да смилуется над ним Создатель - отдавая препочтение последнему, "переставшему сознавать, где золото, а где монета", мотыльку, преступившему осознание своего единения с пламенем и ставшему им), сворачивая его в невесомую кожуру, чешую, швыряя в россыпь сухим кленовым крылатым семенем, и тогда все сквозь створы пламени несется потоком подземной магмы, кипящей страшным холодом северного сияния в карстовой накипи глазного яблока, все хлещет в его два зрачка, слитые в один, как если бы язык утратил в миг постоянного состояния опору корней, растратив безвозвратно значения, как сознание - смерть, живя неуследимым испарением префиксов, окончаний. Убийство никогда не бывает "случайным" или "внезапным". Соловьиное пение в воске слуха предстает чернильным слепком в зеленом кругу тьмы, продолжать далее не представляет возможности продолжения. Центр смерти - шум. Перед грозой листва темна. Тройная мена воды, земли и огня. Метит пылью мутную зелень, путает письмо воды. Перед тем, как моя кожа передаст мозгу то, что должно ей узнать (не впервые). Центр сна - пустыня. Центр сада - сон. Центр солнца - ночь ослепления. Вон. Центр тебя - ничто, куда возвращение: игольное ушко ночи, надпись зрачка - зияния, беспрепятственное, как если бы не быть вопрошанию, но отворению, как если бы ось слежения пронизывала насквозь. Начиная движение от центра, от: сада, сновидения, повиновения, пустыни к ослеплению ночи. Сколь бесхитростно, как изумляюще наивно. Смерть - это совмещение "я" с тем, что оно являет; с тем, что ускользает, подобно сухому листу от своего места, тлеющему на сетчатке еще какое-то время северным сиянием. В абсолютно пустом мире задыхаться от обилия вещей и памяти. То или другое с таким же терпением, как пальцы (вспять?), глаза ощупывают разум, заносит илом зрения. Начинаем ли мы свое возвращение к такому месту, так как слышали, что "влюбленные понимают возвращение как состояние, в котором любящий более не воспринимает свое "я"... Или же совпадение с именем? Твоя кровь ползет к щиколоткам, реальное превращая в собственное подобие.