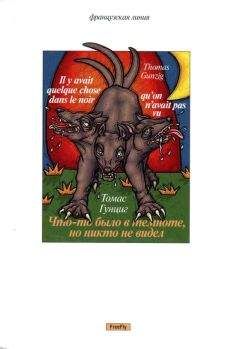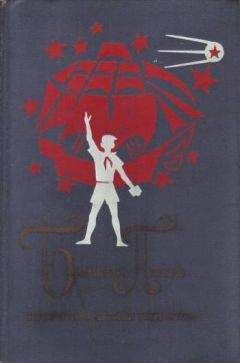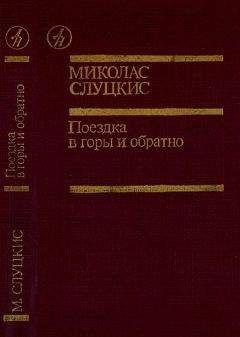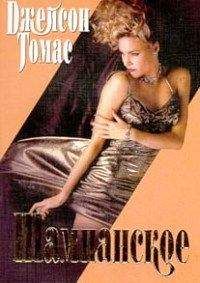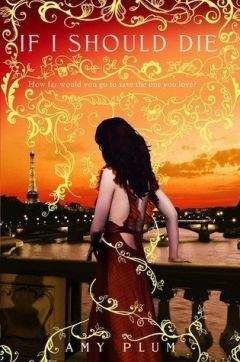Миколас Слуцкис - На исходе дня
В голове у доктора мелькнуло: не поможет она мне, только мешать будет. А, чепуха! Всегда ведь помогала. Просто напугал ее своей кислой физиономией. И выпивать стал… Не одобряет.
— Он мне нужен или я ему? Он болен или..?
— Кажется, будущий наш пациент? — Холодок в ее глазах не таял, она наблюдала за Наримантасом, не выдавая своих чувств, только трезво оценивала положение.
— Еще о будущих думать! Хватит и тех, кто есть.
Приказывал или просил — все едино! Их обоих, Наримантаса и Казюкенаса, и на расстоянии не покидало чувство какой-то связанности друг с другом, траектории их, пока не соприкасаясь, сближались, кто-то должен был первым подать знак — чуть замешкался бы Казюкенас, он, Наримантас, сам сделал бы шаг навстречу, подогреваемый непреодолимым желанием поставить все точки над i в деле, за которое, он с самого начала знал это, не следовало браться. Именно так — опасливо, нерешительно, с ватными руками и ногами — еще ребенком подкрадывался он к рыси. Его путь к ней был окольным, он лез сквозь заросли и крапиву, хотя дикая кошка скреблась совсем рядом, за дощатой стенкой сарая, в клетке, огороженная надежными железными прутьями, о ее присутствии свидетельствовала невыносимая вонь, шибавшая в нос…
— Я нынче вовсю расхваливал вас одному человеку, а сам грублю… Не сердитесь, сестра.
— И не собираюсь, доктор. Да, главное-то забыла! — Это была маленькая хитрость Нямуните — главное она сказала, — и потому щеки ее зарумянились. — Вам сегодня придется оперировать. Доктора Кальтяниса вызвали в военкомат, доктор Жардас латает желудок семидесятилетнему старику, доктор…
— Что-нибудь сложное? — Он вновь почувствовал под собой твердую почву — определенны и четки обязанности хлопочущих здесь людей, значит, и он на своем месте.
— Не похоже.
По мере того как улучшалось его настроение, оттаивала и Нямуните. Ее уже угнетала необходимость прикрывать свои мысли ничего не значащими словами.
— Где больной? В каком состоянии? Подготовлен? — Он вновь стал таким, каким бывал в этих стенах, — ни лишних движений, ни пустых слов.
Выслушав ответ, нахмурился — пустячок, но по привычке следовало поворчать, не покажешь ведь, что радуешься навалившейся работе, словно она твое спасение. А внутри бравурно звучало: замечательно, великолепно, в операционной вместе с седьмым потом сойдут с души все эти привидевшиеся тебе ужасы. Насущный хлеб хирургов — грыжи и аппендициты. Думаете, грыжа — пустячок? Чего только не случается в таком мешке обнаружить, чуть ли не печень. Помню, как-то один неопытный коллега, вскрывая полостную грыжу, мочевой пузырь рассек… Оперируемый простился с жизнью, а коллега — с хирургией… Бр!.. Дернул же черт вспомнить такое!..
— Поможете мне, сестра? — Его вопрос-приказание был не слишком строг, он вроде бы и просил, но отказа не потерпел бы.
— Если надо… — Нямуните частенько помогала ему в операционной, хотя это не входило в обязанности палатной сестры, тогда в отделении ее замещала ночная сестра Алдона.
Наримантас уважал свои руки, когда мылся — тщательно и терпеливо скреб и вновь мылил их, — уважал, словно принадлежали они другому, более способному, чем он сам, хирургу; только эти руки сумеют — почтительно думал он — исправить корректурную ошибку матушки-природы. С маской на лице, в хлопающем по коленям клеенчатом переднике, потяжелевший и одновременно легкий, он ощущал свое тело изменившимся, освобожденным от веса, как пловец, вошедший в воду. И Нямуните здесь, в операционной, становилась другой, тут никому бы и в голову не пришло, что у нее классическая линия лба — носа, будто прочерченная хорошим рисовальщиком на белизне ватмана. Она будет осторожно подавать инструменты, каждый раз словно расставаясь с какой-то ценностью, но ждать не придется. Бросил использованный, звякнула кювета, поднял скользкие пальцы — в кулаке следующий! Раз-другой все же заворчит, если их руки не сразу встретятся, чтобы не забывалась, а может, подсознательно сводя счеты за утреннюю холодность. Увидел ее будущую улыбку, посверкивающую точечками в глубине светлых глаз — лицо-то закрыто маской, — и, не успев стряхнуть с бровей остатки хмурости, авансом улыбнулся ей. Как-то внутренне улыбнулся — тела своего уже не ощущал, только руки.
Пустячок? Такой гнусный пустячок давно уже не попадался — гнойное воспаление, хоть ложкой вычерпывай. Еще совсем зеленым, еще неучем начинающим накрепко вдолбил себе в голову — не жди пустячков, не будет их, Наримантас, запомни это! И тем не менее, когда легкий на первый взгляд случай превращался в тяжелый, он страдал, словно его самого оперировали…
Не успел еще вылезти из бахил и ощутить привычный вес собственного тела, как его позвали к телефону.
— С вами будет говорить товарищ Казюкенас, — прошелестел в трубке голос секретарши, вежливый, предупредительный и одновременно полный сознания важности возложенной на нее миссии.
— Слушаю, — ладонь Наримантаса была еще влажной, от разгоряченной шеи, казалось, шел парок, и трубку он прижал к уху не очень ловко. Только что значительный, всемогущий, он вновь превратился в рядового, заваленного тысячами забот врача, которому не каждый день звонит большое начальство, а ежели и соблаговолит вдруг, то лишь понуждаемое настоятельной необходимостью, и добра от этого не жди.
— Извините, — секретарша шепчет еще мягче и приглушенней, — товарищ Казюкенас заканчивает разговор по другому аппарату. Будьте любезны, подождите минуточку, я вас соединю.
Наримантас перекладывает трубку к другому уху.
— Приветствую вас, доктор! Не соскучились еще по мне, а? — Густой голос Казюкенаса сдувает, как хлопья пены, щебет секретарши.
— Слушаю вас. Врач Наримантас у телефона, — пытается он спрятаться в наскоро возведенное профессиональное укрытие.
— Боюсь, у нас не телефонный разговор, доктор.
— Понимаю, но… увы. — Наримантас оглядывается — не пришла ли Нямуните? Характерного шарканья ее шлепанцев не слышно, купается еще, почему-то приятно сознавать, что тугие струйки бьют по ее гибкой крепкой спине. — Я только что из операционной…
— Оторвал? Оперируете?
— Да. То есть нет… — Вот ведь какая чепуха, растерялся, что ли? — Кончил. Не успел еще переодеться.
— Ясно, ясно! Там у вас только поворачивайся, лениться некогда, а? Ха-ха! — не обидно, чуть ли не дружески хохотнул Казюкенас. Наримантас крепче сжимает трубку в кулаке, мокрую, липкую от пота. — Если Магомет не идет к горе, может, она сама пожалует к Магомету? — он перефразирует поговорку на свой лад. Наримантасу шутка не очень нравится, но успокаивает его. — Согласны?
— Охотно, товарищ Казюкенас, но лентяйничать я кончаю только в четыре, — проронил он сухо и откашлялся, как бы извиняясь за чрезмерную сдержанность, даже суровость.
— В четыре? Не пойдет, милый доктор! А как бы хорошо вдвоем по лентяйничать… У меня конференция в шестнадцать тридцать. Минутку! — Слышно, как звонит другой телефон, Казюкенас отчитывает кого-то металлическим голосом, без всякого намека на юмор, только что журчавший в его речи; ласковый горный ручеек мгновенно обледенел, и Наримантас слышит лишь гневные рубленые фразы. Потом голос опять теплеет: — Так что же будем делать? Попросим главврача, чтобы отпустил пораньше?
— Чего уж там. — Начальственный разнос Казюкенаса и тут же его потуги встать с собеседником вровень, даже на ступеньку ниже, здорово раздражают. Но, в конце-то концов, неприятный, унижающий тон относится не к нему, он надежно защищен от подобного, и Наримантас достаточно объективно оценивает доброжелательность Казюкенаса, хотя чувствует, как надвигаются еще неопределенные, но угрожающие заботы. Правда, пока он свободен… Может пойти, может не пойти… — Не утруждайте себя, гора попытается сдвинуться. Но время и мне, товарищ Казюкенас, дорого. Пока еще доберусь до вас…
— О чем разговор! Высылаю машину! Когда, доктор? Может сразу? — И Наримантас слышит, как Казюкенас отдает распоряжение секретарше и та деловито отзывается; здорово выдрессирована, успевает подумать Наримантас. «Ясно. Сообщу отделам, что совещание переносится на завтра». И снова голос Казюкенаса в трубке: — Так жду вас, милый доктор, жду!
Словно взмахнуло тяжелое черное крыло, дверца беззвучно прильнула к длинному телу автомобиля, он будто присел на рессорах перед прыжком, и Наримантас почувствовал, что повлекла его могучая сила, не вырвешься — руки спутаны, ноги скованы. Какие-то огоньки мигают на пульте, покачивается перед глазами хорошо подстриженный седой затылок шофера, за окнами мелькают люди, вывески магазинов, серая лента накатанного асфальта — все это сливается в сверкание, слепящее и пьянящее. Эка невидаль ваша «Волга», хотелось ему крикнуть, поудобнее откинуться на сиденье, но почему-то он не мог шевельнуться, словно пойманный, силком погруженный во что-то уютное, обволакивающее, зависящий теперь не только от солидного шоферского затылка, но и от всего окружающего сверкания, в котором сконцентрировалась чужая суровая мощь. Наримантас вцепился в свой чемоданчик — стетоскоп, аппаратик для измерения давления, слабые они помощники, чтобы противостоять уверенному потоку, подхватившему его, как щепку. Эта мысль заставляла сутулиться, ощупью искать какую-нибудь опору, он так и не нашел ее, даже тогда, когда «Волга», легонько качнувшись, остановилась. Не успел прийти в себя, перед глазами уже тяжелая медная доска с напоминающими клинопись буквами, тяжелые черные двери, переплетенные металлическим орнаментом, темноватый глухой холл, старинные, словно бы запыленные, люстры… Подгибались ноги, попирая толстый ворс ковровой дорожки, неловко моталась свободная рука, не решаясь ухватиться за покрытые черным лаком деревянные перила лестницы, ведущей в холл второго этажа, поднимался медленно, ощущая тяжесть своего тела и стягивающий шею узел галстука, несший его поток не отпускал, очень уж широка была парадная лестница. Красивая секретарша со свободно падающими светлыми волосами и удивительно ярким лаком ноготков встретила его, улыбнулась, как доброму знакомому, привстала со стула и грациозным жестом — ноготки ало вспыхнули на солнце — пригласила войти. Но ни секретарша, уважительно отворившая дверь кабинета, ни сам Александрас Казюкенас, рывком поднявшийся из-за стола и, обогнув столик с целым стадом разноцветных телефонов — и на черта ему столько? — поспешивший встретить гостя, не могли развеять гнетущей Наримантаса мысли, что приволокла его сюда некая от его воли не зависящая сила.