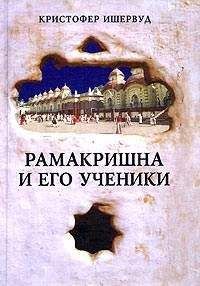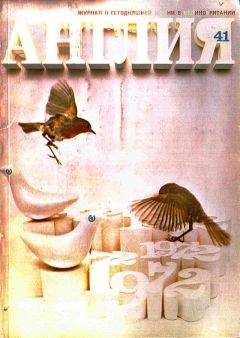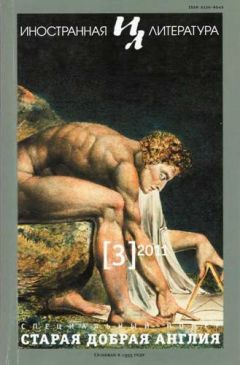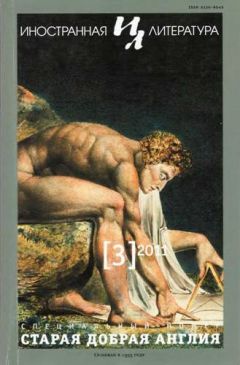Кристофер Ишервуд - Труды и дни мистера Норриса
Но вот однажды, на второй неделе сентября, раздался телефонный звонок. На проводе был Артур собственной персоной:
— Это вы, мой мальчик? А я как раз вернулся — наконец-то! Мне столько всего нужно вам рассказать. Только прошу вас, не говорите, что сегодняшний вечер у вас занят. Не занят? Тогда не могли бы вы зайти ко мне в районе половины седьмого? Мне кажется, я имею полное право добавить, что у меня для вас припасен маленький сюрприз. Нет-нет, ни слова больше. Приходите и сами все увидите. Au revoir.
Когда я добрался до его квартиры, Артур был в прекраснейшем из настроений:
— Дорогой мой Уильям, если бы вы только знали, какое счастье снова вас видеть! Как вы тут без меня обретались? Ни с кем не побратались?
Артур хихикнул, почесал подбородок и быстрым беспокойным взглядом пробежался по комнате, как будто был не вполне уверен, что мебель по-прежнему стоит на своих местах.
— Как там Лондон? — спросил я. Что бы он там ни говорил по телефону, пускаться в откровения Артур был, видимо, не слишком склонен.
— Лондон? — озадаченно переспросил он. — Ах да. Лондон… Если уж начистоту, Уильям, то не был я ни в каком Лондоне. Я был в Париже. Просто в настоящий момент было бы желательно, чтобы некоторые здешние персоны имели не слишком ясное представление о том, куда я ездил.
Он выдержал паузу, а потом с многозначительным видом добавил:
— Мне кажется, вам, как своему ближайшему и весьма доверенному другу, я могу сообщить, что этот мой визит некоторым образом имел отношение к здешней коммунистической партии.
— Вы хотите сказать, что сделались коммунистом?
— Во всем, кроме самого этого названия, Уильям. Во всем, кроме названия. — Он немного помолчал, наслаждаясь произведенным эффектом. — Более того, я пригласил вас сюда, чтобы сегодня же вечером вы стали свидетелем того, что я назвал бы моим Confessio Fidei.[13] Через час я должен выступить на митинге протеста против эксплуатации китайского крестьянства. Надеюсь, вы окажете мне честь своим присутствием?
— О чем речь!
Митинг должен был состояться в Нойкёльне. Артур настоял на том, чтобы мы всю дорогу проделали на такси. Он был настроен на широкие жесты.
— У меня такое чувство, — заметил он, — что я буду вспоминать об этом вечере как о поворотном пункте всей моей карьеры.
Он откровенно нервничал и всю дорогу вертел в руках пачку исписанных листов. Время от времени он бросал за окошко такси тоскливые взгляды, словно готов был вот-вот попросить водителя остановиться.
— Сдается мне, в вашей карьере было изрядное множество поворотных пунктов, — сказал я, чтобы хоть как-то его отвлечь.
И эта нарочитая лесть мигом прогнала печаль с его чела:
— Было, Уильям. Ой было. И ежели судьба распорядится так, что жизнь моя закончится сегодня ночью (а я искренне надеюсь, что она распорядится иначе), я смогу положа руку на сердце сказать: «По крайней мере, я жил…» Хотел бы я, чтоб вы знавали меня в давно минувшие дни, в Париже, перед самой войной. Тогда у меня была собственная машина и апартаменты в Буа. Вот уж где, скажу я вам, было на что взглянуть. Дизайн спальни я делал сам, сплошь алое и черное. И у меня была уникальная коллекция кнутов, — Артур вздохнул. — По природе я человек чувствительный. И на окружающую среду реагирую самым непосредственным образом. Я — как цветок, и когда мне светит солнышко, я раскрываюсь. Чтобы понять, какой я есть на самом деле, вам нужно увидеть меня в соответствующей обстановке. Хороший стол. Хороший винный погреб. Искусство. Музыка. Красивые вещи. Общество — очаровательное и остроумное. И вот тогда я могу блистать. Я преображаюсь.
Такси остановилось. Артур суетливо расплатился с водителем, и мы прошли через обширный пивной павильон под навесом, пустой и темный, в такой же безлюдный ресторан, где престарелый официант сказал нам, что митинг состоится наверху. «Только не в первую дверь, — добавил он. — Там клуб любителей кегельбана».
— Боже мой, — воскликнул Артур. — Мне кажется, мы безнадежно опоздали.
Он оказался прав. Митинг был в полном разгаре. Взбираясь по широкой шаткой лестнице, мы слышали, как отдается в длинном запущенном коридоре голос оратора. У двойных дверей стояли на страже два крепко сбитых молодых человека в нарукавных повязках с серпом и молотом. Артур торопливо им что-то объяснил, и нас впустили. Он нервически сжал мою руку. «Ну, увидимся позже». Я сел на ближайший свободный стул.
Зал был просторный и стылый. Украшенный безвкусной барочной росписью, он был построен, должно быть, лет тридцать тому назад и с тех пор ни разу не ремонтировался. Гигантское панно на потолке — выполненные в розовых, голубых и золотых тонах херувимы, облака и розы — облупилось и было сплошь покрыто потеками сырости. Вдоль стен были натянуты красные транспаранты с белыми надписями: «Arbeiterfront gegen Faschismus und Krieg», «Wir fordern Arbeit und Brot», «Arbeiter aller Länder, vereinigt euch!»[14]
Президиум сидел за длинным столом на сцене лицом к аудитории. За ними на драном заднике был изображен лесистый горный склон. В президиуме сидели два китайца, девушка-стенографистка и костлявый мужчина с пушистой шевелюрой, который положил подбородок на руки так, словно слушал музыку. Перед ними, в опасной близости от края платформы, стоял невысокий широкоплечий рыжеволосый человек и размахивал, как флагом, листом бумаги:
— Вот цифры, товарищи. Вы их слышали. Они сами за себя говорят, не так ли? Мне к ним добавить нечего. Завтра мы напечатаем их в «Welt am Abend». Нет смысла искать их в капиталистической прессе, потому что их там не будет. Заправилы капитала не допустят их на страницы своих газет, потому что появись они там — и биржевой курс рухнет. Вот ведь какая жалость. Но ничего. Рабочие их увидят. Рабочие поймут, что за ними стоит. Давайте направим послание нашим китайским товарищам: «Рабочие, члены Германской коммунистической партии, протестуют против зверств японской военщины. Рабочие требуют оказать помощь сотням тысяч китайских крестьян, оставшихся без крова». Товарищи, китайское отделение МАБ[15] обращается к нам с просьбой о материальной помощи для борьбы с японским империализмом и европейскими эксплуататорами. Наш долг оказать им эту помощь. И мы им ее окажем.
Он говорил и улыбался задиристой, торжествующей улыбкой; его ровные белые зубы отблескивали в свете ламп. Жестикуляция у него была крайне сдержанная, но каждый жест отличался невероятной законченностью и силой. Временами казалось, что гигантская энергия, сосредоточенная в этом невысоком коренастом теле, физически оторвет его от сцены, словно слишком мощный для такого ограниченного пространства мотоцикл. Мне приходилось два или три раза встречать в газетах его фото, но имени я вспомнить так и не смог. Там, где я сидел, слышимость была не самая лучшая. Его голос дробился, раскатываясь по просторному сырому залу громоподобным эхом.
На сцене появился Артур, торопливо обменялся рукопожатием с китайцами, извинился, посуетился, стал пробираться к стулу. Взрыв аплодисментов, который последовал за финальной фразой рыжеволосого, заметно его напугал. Он сел, как упал.
Пока в зале хлопали, я, чтобы лучше слышать, переместился на несколько рядов вперед, протиснувшись к мелькнувшему впереди пустому стулу. Как только я сел, меня потянули за рукав. Это была Анни, барышня в сапогах. Бок о бок с ней сидел тот парень, который на новогодней вечеринке у Ольги лил Куно в глотку пиво. Они оба почему-то очень мне обрадовались. Парень стиснул мне руку, причем хватка у него была такая, что я едва не заорал от боли.
В зале было битком. Люди по большей части пришли сюда в засаленной рабочей одежде. На большинстве мужчин были бриджи с чулками из грубой шерсти, свитера и остроконечные вязаные шапочки. Я никогда прежде не бывал на коммунистических митингах, и более всего меня поразило напряженное внимание на всех этих, ряд за рядом, устремленных к сцене лицах; лицах берлинского рабочего класса, бледных, изборожденных преждевременными морщинами, зачастую изможденных и аскетических, как лица ученых, с зачесанными назад с широких крепких лбов редкими светлыми волосами. Они пришли сюда не для того, чтобы посмотреть на людей или показать себя, и даже не для того, чтобы исполнить некий общественный долг. Они были внимательны, но ни в коем случае не пассивны. Они не были зрителями. С пытливой, сдержанной страстностью они принимали участие во всем, что говорил рыжеволосый. Он говорил за них, он выражал их мысли. Они слушали свой собственный коллективный голос. В перерывах они с внезапной, спонтанной яростью принимались этому голосу аплодировать. Их страстность, живущее в них ясное понимание цели воодушевили меня. Я был — снаружи. Может быть, когда-нибудь я тоже буду с ними — но не одним из них. Пока же я просто сидел среди них, не уверенный в правильности сделанного шага дезертир от собственного класса, и моим чувствам мешали отлиться в простую и ясную форму разом и анархистские дискуссии в Кембридже, и слова из церковной службы, и та музыка, которую играл духовой оркестр, когда семнадцать лет назад полк моего отца шел на железнодорожную станцию для отправки на фронт. Тем временем коренастый рыжий оратор закончил выступление и под гром аплодисментов вернулся на свое место за столом.