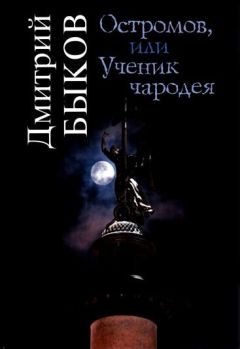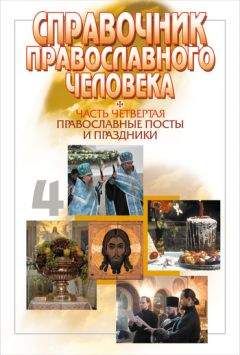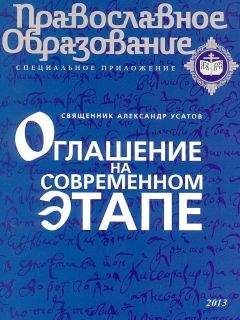Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Поленов собирался разразиться отповедью, не пощадив на этот раз никого — ни Михаила Алексеевича с рассказами, ни Игорька с картинками и печкой, — но вновь прозвенела любовная трель, и Михаил Алексеевич впустил Альтергейма, бледного поэта, писавшего непонятное. Поленов его за поэта не считал. Михаил Алексеевич меж тем его жаловал и звал «Альтер», с нежною растяжкой на первой гласной. Поленов, как все мономаны, не мог допустить, чтобы непонятные ему стихи были милы и ясны другим, и оттого подозревал сначала, что Альтер содомит, почему его так и любят здесь; но у этого было другое, более страшное извращение. Можно понять того, кто любит не тех и не так, но невозможно смириться с человеком, которому это вообще не нужно.
— Я теперь все думаю, что болен, — сказал Альтер, — хотя я здоров.
Он говорил странные, отрывистые вещи, без подготовки, словно продолжал прерванную беседу.
— Почему же? — с живейшим любопытством спросил Игорек.
— Я чувствую неправильность своего положения, — бледным ломким голосом продолжил Альтер, — и это наводит меня на мысль о неправильности телесной.
— Это мне понятно, — кивнул Михаил Алексеевич, нацеживая Альтеру чаю; тот между тем ставил на стол бутыль дешевого красного вина, купленного у армян на Сенном рынке. — Маркиз де Ферраль получил от прорицателя Десонье точное указание, что во Франции случится революция, и успел скрыться за границу. Смерти он избежал, но голова у него всю жизнь болела. Он назвал это фантомной болью. «Ее место в корзине, — говорил он, — она задержалась».
Поленов был совершенно уверен, что на свете никогда не существовало ни Десонье, ни Ферраля, ни его головы.
— Мне кажется, что я все делаю неправильно, — продолжал Альтер. — И некому сказать, что я все делаю правильно.
— Стихи вы пишете правильно, это главное, — поспешил подлизаться Игорек. Поленов знал за ним эту черту — всех нахваливать, это он покупал благосклонное отношение к своим вырезным салфеточкам, печным росписям.
— Может быть, — небрежно сказал Альтер, — неправильность в том, что я вообще их пишу. Этого не нужно делать, а что нужно — не знаю. Я даже не знаю, кто сейчас на месте. Может быть, вы, Михаил Алексеевич, потому что вы без всякого места. Но это очень трудно.
— Вы еще для такого молоды, — снисходительно улыбнулся Михаил Алексеевич, довольный оценкой.
— Моя болезнь в том, — продолжал Альтер, — что мозг мой рассчитан на вещи сложные, а занят простыми. А стихи нельзя писать двадцать четыре часа в сутки. Пока этот не занятый делом мозг простаивает, как теперь говорят, он поедает сам себя.
— У меня и это было, — кивнул Михаил Алексеевич. — Да и есть, пожалуй.
— Я не могу все время так просто жить. В девятнадцатом году все было так сложно, что, казалось, у меня голова лопнет. И даже когда я в армии был, все еще казалось сложно. А когда пришел — тут все так просто, что даже делать нечего. Я испугался.
— Вы еще можете дожить до сложности, — пообещал Михаил Алексеевич, ласково глядя на Альтера. — Лет тридцать, если ничего не случится…
— Да, но я разучусь. Я и теперь уже забываю. Вчера читал Бардесана и забыл, что значит амфилафис.
— Амфилафис значит густой, — все так же ласково подсказал Михаил Алексеевич.
— Ну вот, так за тридцать лет и забуду.
— Нет, тут знак, — Михаил Алексеевич во всем видел знаки, вся природа только и делала, что ему сообщала сокровенное. — Слово, которое забыто, и есть главное. С вами, Альтер, случится что-то густое. Сейчас у всех пусто, а у вас будет густо.
— Чувствительно вам признателен, — тонким голосом сказал Альтер. — И еще я стал ожидальщиком. Понимаете, что это такое? Все время жду, что мне кто-нибудь позвонит, или придет письмо, или просто на улице позовут по имени.
— О, это я очень понимаю! — воскликнул Игорек. — Это я понимаю как никто, только очень страшно. Я боюсь, что заберут.
— А я нет, — сказал Альтер. — Иногда я даже хочу, чтобы забрали. Хоть кто-то заинтересовался. На самом деле я хочу, чтобы кто-нибудь подошел и сказал, чего я действительно стою. Если бы забрали, это все-таки оценка…
— Это я тоже понимаю, — сказал Михаил Алексеевич. Они переговаривались о симптомах, как больные в очереди на прием. — Один слепой все время ждал телефонного звонка. В конце концов у него начались слуховые галлюцинации, и он уже не знал, звонят ему на самом деле или кажется, и пропустил тот звонок, которого ждал.
— Я думаю, ему звонил другой слепой? — не то утвердительно, не то вопросительно встрял Игорек.
— Скорей расслабленный, — резко сказал Альтер.
— Я бы очень хотел с кем-нибудь поговорить, — продолжал Михаил Алексеевич. — Я как-то сейчас не очень верю в свое бессмертие, вообще вера в Бога осталась, но не в чувстве, а в разуме. Как будто я знаю, что верю в Бога, но никак этого не чувствую, и это уже не дает силы жить. А если бы кто-нибудь со мной на розовом, хорошем закате, в теплый вечер об этом поговорил, я бы ему поверил. Странная вещь, чужое бессмертие я могу представить, а свое не могу. У меня в последний год все сны об умерших, утопленники открывают глаза…
Поленов вздрогнул.
— Они приходят все такие злые, такие неприятные. Делают вид, что рады, а на самом деле что-то замышляют. Они очень там портятся. Может, я потому не вижу своего бессмертия, что такого не хочу, а в другое теперь не верю. И боюсь, мне ни с кем уже не поговорить, потому что я забываю те слова, которыми об этом говорят. Помню какие-то другие. Как будто переехал в бедный город или на нижний этаж.
— И еще я ничем не могу заниматься долго, — сказал Альтер. — Как будто все жду, что придут и отвлекут, и втайне хочу, чтобы отвлекли, потому что я не уверен, что занимаюсь настоящим. А сказать мне никто не может, я даже вам не верю, потому что вы ведь со мной знакомы и, кажется, меня любите.
— Меня тоже теперь хватает только на короткое, — сказал Михаил Алексеевич. Это была неправда, но он хотел утешить Альтера. В действительности то, что он писал теперь, было как раз de longue haleine[2], в том новом кротком и гордом духе, который пришел, когда он отбросил всякое недовольство — ибо оно распространилось бы теперь на все, — оставил надежды на большие перемены и стал только ждать, что еще отнимут.
Стали сходиться. Пришел Захаров с моноклем, Кякшто с поклонником, Серафимов с кларнетом, Золотаревский с насморком, Беленсон с огромным подбородком. Пришел Ломов со своим приятелем, обещанным оригиналом. Оригинал показался Поленову самым тут нормальным. Поленов не любил остальных. Они перемигивались, разговаривали паролями, как-то очень уж подчеркивая, что они тут свои. Он всегда выходил не свой. Оригинал тоже был не свой и тем нравился, и человек, сразу ясно, солидный.
Он был высок ростом, худ, серые круглые глаза его глядели спокойно. Он был поленовских лет, может, чуть старше; в кости узковат, но крепок, и по сугубой невозмутимости среди общего шума чувствовалось, что всякого повидал. Поленов ощутил в нем силу — на силу имел чутье безошибочное. Все эти люди были слабы, хоть и считали себя бог знает кем. Конечно, им было теперь плохо, а разве не сами накликали? Поленову и тогда было хорошо, инженером, и теперь было бы хорошо, если б жила и танцевала Лидочка. Эти же были несчастны без повода, вообще, а потому и несчастье их было фальшивое. Собравшись, они тотчас начинали читать плохие стихи или ругать власти. Вспоминали уехавших, обменивались данными из писем, выходило, что всем там хуже, чем здесь. Уехавшие, вероятно, так же собирались там и обменивались сведениями, как ужасна жизнь оставшихся.
— Что будет? — говорил Михаил Алексеевич. — А я скажу, что будет. Они примутся теперь за своих.
— Ну, сначала-то нас, — хихикнул Золотаревский, в прошлом фельетонист.
— Нет, мы и на это не годимся. Им надо теперь укрепляться, а от нас какая же опасность? Им свои теперь опасней чужих. Термидор.
— До термидора была Вандея.
— За три месяца, кажется?
— Вандея восстала, а мы по углам шипим, — сказал Захаров, режиссер. Он только что приехал со съемок из Одессы и говорил, что будет нечто грандиозное из эпохи пятого года.
— Иногда шипеть-то пострашней…
— Знаете на что похоже? — говорил Михаил Алексеевич. — Это гальванизированный труп, ровно так, ничего больше. Все умерло еще в пятнадцатом году, я очень почувствовал, просто как отчекрыжило. И Александр Александрович говорил, что все умерло в пятнадцатом. А потом этот труп гальванизировали очень сильным током, и он пошел, только мысли у него все мертвые, слова мертвые и поет он все время о павших борцах, и ставит им памятники. И так он будет ходить еще некоторое время, даже довольно неуязвимый для всяких врагов, потому что мертвому что же станется? Но потом он начнет разлагаться, и тогда все кончится уже совсем. Я не знаю, когда именно, каким током его надо будет бить, но сам он мертвый, и весь язык его будет мертвый, и разложение его будет долго и гнойно. Если бы он павши в землю умер, то еще что-то могло быть, а так он все перезаразит и отравит, и теперь долго ничего не будет…