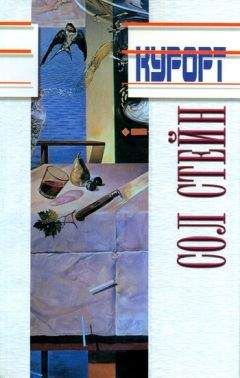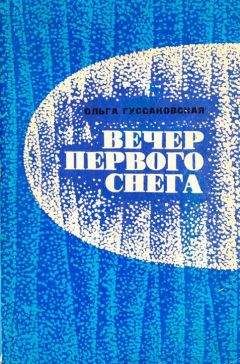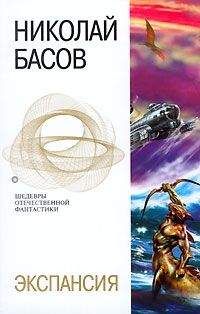Жан Жене - Торжество похорон
— Ах, ты в конечном счете волен делать только то, что тебе нравится.
— А?
Но пока я говорил, он поднялся, и мне показалось, что он вот-вот уйдет. Однако он снова сел на мою кровать.
— Ну так как? Остаешься или уходишь?
— Не будешь приставать?
— Ну да, черт подери.
— Остаюсь.
Мы поговорили о всякой всячине. Уже тогда по тону его ответов, по некоторому замешательству в голосе, по самим его колебаниям я уразумел: он не только останется, но и позволит мне все то, в чем до сих пор отказывал.
— Будешь раздеваться?
Чувствовалось, что он оттягивал, несмотря на принятое решение мне отдаться, оттягивал сам момент ныряния в кровать, под простыни, и телесного слипания со мной. Наконец медленно, словно бы прогуливаясь по комнате, он разделся. Когда он лег, я притянул его к себе и вижу — у него уже стоит.
— Так-то ты держишь слово. Обещал же оставить меня в покое.
— Да что ты! Я только тебя поцелую. Тебе плохо не будет.
Я поцеловал его. А он сказал, причем на удивление спокойным голосом:
— Хорошо.
Этот «хорошо» означало, что он уже принял решение и бросался с головой в непоправимое.
— Хорошо.
Наконец, продышавшись:
— А если бы мне сегодня захотелось?
— Что?
У него появилась нетерпеливая гримаска. Он разом выпалил, хотя конец фразы замер — ему не хватило дыхания:
— Да сам ведь все понимаешь, но хочешь, чтобы я сказал словами… согласен я или нет заняться с тобой любовью?
— Жан!
Я погладил его руку.
— Жан…
Я не знал, ни что говорить, ни что делать. Он почувствовал мое блаженство. Остался недвижим, вытянувшись на спине, лицо и мускулы расслаблены от самой этой позы, но в глазах сохранялась обычная живость, веки регулярно помаргивали, что показывало мне: паренек, несмотря на смятение чувств, начеку. Я погасил свет. Изнемогая, слабея, я лег ему на спину. Через какое-то время он прошептал:
— Жан, отодвинься.
Изо всех сил желая избавить его от занятий на моих глазах наиболее интимными подробностями гигиены, я провел своей рукой между его ягодиц, как бы лаская их там, а он, из подобного же целомудрия, опасаясь, как бы моя рыбка не измазалась в его дерьме, тоже решил вытереть ее свободной рукой. Мы одновременно проделали одно и то же с такой невинной непосредственностью, словно совершенно случайно моя рука под простыней задела его ягодицы, а его — моего рыбца. Тогда-то он и прошептал свою знаменитую фразу:
— Я тебя люблю еще сильнее, чем прежде.
Я поцеловал его в затылок с таким жаром, какой должен был его успокоить, ибо он, набравшись решимости, выдохнул наконец в подушку признание:
— Я боялся, что ты не будешь меня любить… после этого.
— Ах, Жан!
Моя рука в поисках волос, которые мне хотелось погладить, задела его лицо, и я погладил его по щеке. Пока я вставал с постели зажечь свет, он, должно быть, захотел скинуть простыни (мы оба вымокли от пота), и, когда вспыхнула лампочка, я увидел, что он, как можно дальше отставив от лица ладони, разглядывает окрашенные красным ногти и кончики пальцев. Я глядел на его лицо в капельках пота и длинных потеках крови. Посмотрел на свои руки. Они были в кровавых пятнах. Меня не удивляет, что он посвятил мне стихи, которые я чуть позже приведу, поскольку Жана вовсе не смущали подобного рода деяния и он оценивал соития не с тем легким страхом, который всегда составляет самую суть поэтического видения, а, напротив, с сугубо практической стороны.
— Что случилось? У нас идет кровь?
Он все еще держал руки вытянутыми, было похоже, что он желал обогреть их дыханием роз, но на самом деле он обстоятельно разглядывал простыни. Мой черенок кровил. Я это понял раньше Жана: я был слишком напорист, не обращал внимания на его стоны и ободрал его зад, мой же рыбец, задев за какой-нибудь волосок, слегка поцарапался. Вот так мы смешали нашу кровь. Он помрачнел:
— Тебе больно?
— Пустяки. А тебе?
Он пожал одним плечом и соскочил с кровати к умывальнику. Когда он снова лег, руки у него были ледяные. Он заговорил со мной с таким спокойствием, что, дабы вернуть нам чуточку живого чувства или же просто из вредности, я сунул указательный палец меж его ягодиц и, улыбаясь, начертал на его правой щеке серп с рудиментарным молотом, а на левой — свастику. Он рассердился. Мы подрались. От ярости и стыда он быстро молча оделся и пошел домой. Через несколько дней принес мне вот это стихотворение:
Мои ладони все дары отвергнут,
И только ночь станцует на могиле
Для нас беднейший танец, где все «па» —
Па соли, хлеба, извести павана
С кристалликами серы, в грязной жиже…
Что ж! Горе мстит мне и грозит из высей?
Позволь же хоть одеться перед встречей
С солончаками боли, что под землю,
Под корни трав ведут в урочья тьмы —
В твой глаз. Он зрит в распахнутых минутах
Недвижность скачки под ногой и в пальцах —
Оружье грозное. Оно мое по праву.
Тот серп в крови святой и справедливой,
О юноша с звенящей розой, знай же,
Он спит пока в траве густой и черной,
Поющей смерть, убитых, их победу.
Носить рубашки или носки Жана, заниматься судьбой спичек, до которых он дотрагивался, заплетать прядки его волос в браслеты либо заключать их в медальоны — всего этого недостаточно. А оглашать пустыню одиночества его именем — уже кое-что. А не попробовать ли вслух пересказать некоторые произнесенные им слова, фразы, неуклюжие стишки, которое он писал, не дерзнуть ли возвратить ему телесность в моем собственном теле?
Было ли прекрасно его стихотворение? Не могу честно ответить на вопрос, ибо не ведаю, что есть красота. Слова «прекрасный», «красота» в этой книге (и прочие) имеют власть, происходящую из их собственного существа. И вне этого не содержат ничего умопостигаемого. Я употребляю их точно так же, как укрепляют бриллиант на некой безразличной для дела части платья, а не заставляют его еще и послужить пуговицей. Стихотворение — нечто совсем иное. Его четыре строки мне захотелось смешать с двенадцатью моими (как смешалась наша кровь. Знаю, все это детские игры, но не более, нежели церемония подписания договора между двумя великими державами, или торжества по поводу удаления нечистот с перекрестка на улице Ретонд, или вырезывание на коре переплетенных инициалов, или…), эти четыре строки, вылетевшие изо рта Жана (хочу, чтобы меня поняли буквально), приоткрывают душу (душу? а может, тело?) Жана, окрашенную либо в радужные, но с вечерним отливом цвета, либо в цвета очень яркие, наполненные живостью пейзажей, игрой актеров с блистательными жестами. А язык… именно этот язык передает душу (вот почему я избрал именно это слово), и речь… ибо когда передаешь душу, кажется, что она — физически ощутимое дыхание, несущее живую речь: душа представляется не чем иным, как гармоническим развитием, продолжением — в выдержанных в должном стиле и нюансированных незримым попечением завитках — шевеления морских водорослей и волн, странной жизни в живых органах под покровом ночи, да и самих этих органов: печени, селезенки, зеленоватой стенки желудка, гуморальных выделений, крови, хилуса, коралловых канальцев из пурпурного кровяного моря, голубоватых кишок. Тело Жана было сосудом из драгоценного венецианского стекла. Я вовсе не сомневался, что мог прийти час, когда эта чудесная речь, вытянутая из него, как нитка с катушки, привела бы к тому, что он уменьшился, как худеет та же катушка, истаял телом, истончился бы до прозрачности, до последнего зернышка света. Благодаря ему мне известна материя, составляющая ту звезду, которая этот свет испустила, а потому дерьмо из прямой кишки Жана, его тяжелая кровь, его сперма, слезы — это не ваше дерьмо, не ваша кровь, не ваша сперма.
… оружье грозное…
Мешая мысли о Поло с воспоминаниями о Жане, я лег спать. В моей крошечной гостиничной комнатке через открытое окно с кровати виднелась Сена. Париж еще не спал. Что сейчас поделывал Эрик? Мне было трудно вообразить его жизнь с Поло и его мамашей, но несколько успокаивала возможность вновь пережить с ним — а подчас и в нем или в Ритоне — те часы, что он провел на крышах с ополченцами.
И тут в темном небе над закраиной крыши проступили сначала две обнаженные руки. Они были светлыми в темноте. Одна рука за кисть притягивала к себе другую. Эти две сильные, мускулистые мужские руки, закаменевшие, словно паровозные шатуны, в почти безнадежном усилии, секунды три пребывали в удивительно легкой неподвижности, мгновенном смертельном напряжении неопределенности. Затем по наименее мощной, хотя столь же прекрасной, как и другая, руке волной пробежала решимость. Послышался легкий скрежет стали об оцинкованный лист. Этот годный для плаката рисунок двух протянутых рук, готовых на чисто мужскую братскую поддержку, едва не разорвал, не располосовал небеса. Звезды скупо освещали эту сцену. Рука, казавшаяся не такой сильной, чуть притянулась к телу, коему принадлежала. Надежда придала ей запал смелости. Торс Ритона несколько наклонился, и все его крепко сбитое, хотя и надломленное тело чуть отодвинулось, устранилось медленно, мягко и исчезло за кирпичной печной трубой, в которую вцепилась ладонь его второй руки. Маленькому ополченцу удалось наконец оттянуть от бездны немецкого солдата, поскользнувшегося на слишком гладких листах крутой железной крыши. И тот, и другой были босиком и без шапок. Помогая себе другой рукой, в которой была намертво зажата губная гармошка, Эрик полз вверх по крыше на животе, так что его поднятая голова, когда он пришел в себя, оказалась на уровне колен Ритона. Он выпустил наконец руку парнишки, такого же бледного, как и он сам. Ритон вытер пот со лба, он весь взмок, его рука теперь висела устало и побежденно. Эрик, все еще не отрывая живота от крыши, почти тотчас схватил ее и пожал, прошептав: