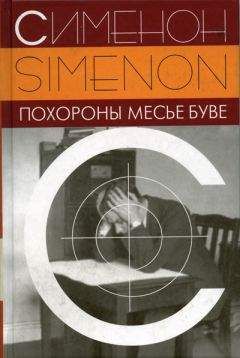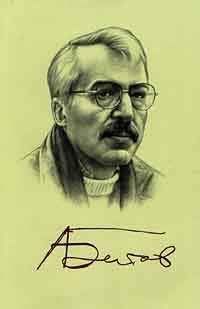Василина Орлова - Пустыня
Мамаша с сумкой и с ребёнком. Мальчишка помогает морю шуметь, орёт ему в паузах: «Э-хе-хе-хе-хей!» — как будто смеётся.
И в облике каждого — неуловимое лишнее или недостающее. В том весь образ Ялты. Дорогого нищего курорта. «Ялтинская ривьера», — вспомнился плакат над вчерашней дорогой.
Хорошо здесь, а надо будет поинтересоваться в Москве, что отсюда исходит? Чехов писал, Горький — понятно. А здесь что родится? На щедрой земле…
Схожу с набережной, бреду по краю, по берегу. Привычка, от которой не могу отказаться даже ради созерцания моря — смотрю под ноги, шагая по камням. Надеюсь, что ли, встретить свой дунайский камешек?..
Пляжников не много, но есть. Среди них внимание останавливает девушка. Она одета. Она просто сидит на берегу, лицом к морю, ко мне спиной. У неё длинные тёмные волосы. Наушники. Сидит и слушает — конечно, музыку.
Совершенно неподвижна, руки, как на парту, положила на колени, выставленные вперёд, и, пока другие ходят вдоль кружащей волны туда и сюда, поворачиваются к солнцу под разными углами, говорят по сотовым, едят что-то, курят — она смотрит море. И в её неподвижности нет никакой нарочитости — просто заслушалась. Джинсы и чёрная водолазка.
Я сажусь несколько сбоку, поодаль, сняв и подстелив свитер, и смотрю на девушку и на море.
И картина кажется мне настолько прекрасной, слёзы наворачиваются. Отвлекаюсь, чтобы записать, а когда вновь смотрю, она уже встает, обматывая шею шарфом. Белый шарф мне нравится тоже. Я ещё некоторое время смотрю ей вслед, а потом встаю и перехожу на то место, нахожу даже двудольную выемку в камешках, след её сидения.
Между мной и морем теперь возится бодрое семейство, толстенькая дочка очень хочет искупаться, ей говорят — нельзя. Мама потихоньку сдается, говорит: «Закалка». Но папа непреклонен.
Наконец и они уходят.
Море. Повернуть голову — горы, местами рыжие. По горам, цепляясь за лес, плывут рваные тени облаков, сами облака спотыкаются о верхушки, съедают от взгляда. Тени волнистые, изменчивые, разноцветные, вон та — сиреневая, а что ближе — серо-фиолетовая.
Протекают, как и тени, неторопливо, лёгкие, необязательные мысли. Типа того, что фактура вот у меня хорошая, и я могла бы очень красиво носить очень дорогие вещи. Но вместо — никак не меняю своим присутствием общего облика и разболтанной внешности провинциальной «ривьеры». И брюки не гладила даже после ночёвки в поезде.
Поросёночек, желавший искупаться, прибегает снова, сполоснуть копытца, прежде чем обуться. Нелепая и милая грация толстой девочки. Она заигрывается, увлекается камешками, смотрит пристальнее в них, пока не нахлынула волна, балансируя на одной ноге. Заканчивается тем, что она мочит туфли и в мокрых удаляется, на сей раз, вероятно, навсегда.
А я возвращаюсь к повторным мыслям.
Думаю, да. Надо смириться. Мне не носить дорогих нарядов — по крайней мере, в юности, так как она, в общем, проходит, если не прошла. Наступающая за ней молодая зрелость — состояние более приятное. Но вероятно также, что мне не познать богатства и в зрелости, впрочем — непечально. А ещё — вряд ли вполне вкусить радостей чувственной любви, хотя, конечно, всё же слишком рано для подобного вывода.
Поросёночек возвращается — ему даровано окунуться. Тут, словно в подтверждение давешним рассуждениям о фотоаппаратах, выясняется, батарейка папиного «фотика» «не тянет». Повторяется всеми несколько раз на разные лады: «не тянет… не тянет… не тянет…» Большое разочарование на маленьком пятачке. Мне тоже страшно жаль. Теперь не ради чего совершать подвиг.
…А может, я и не права, может, у других молодых женщин всё как-то совсем не так: одежда, мужчины. Но, кажется, как скажу, так и будет — больше просто некому говорить. Меня не радует, я бы хотела выслушать чьё-нибудь ещё мнение. Ахматова научила женщин говорить? Ничего подобного. Надолго погрузила в густое молчание или заставила болтать чепуху. Предоставила образцы: как примерно говорить на те и другие темы. Дала опыт феноменальной неискренности. Набор лекал, романтических шаблонов. С тех пор женщины повторяют выспренний бред, закатывают глаза и подвывают при чтении вслух, а бусы бряцают, как роковые мониста.
Опять семейство. Сталкиваюсь взглядом с мамой, улыбаемся друг другу. Фотоаппарат «тянет» на сей раз — то ли поменяли батарейки, то ли обманывали девчонку.
— Холодная вода? — спрашиваю, чтобы было без неловкости.
— Во! — мама выставляет большой палец.
Киваю.
Всё-таки, здесь, в Ялте, когда была в первый раз, мы, юные весёлые маргиналы, ощущали себя действующими лицами в театре, хоть и где-то на обочине Большой Жизни. В стороне от Крупных Событий. А сейчас вижу, событий как таковых нет — ни там, ни в других местах. «Должно же быть где-то такое». Такое. Где-то — скорее всего, отсюда не видно. Причудливая аберрация зрения, искажение оптики восприятия. Все события-то, они здесь и есть. Если точнее, происходят сейчас, вот в эту минуту.
Тёмно-серые с белым отливом волосы, чёрный плащ, большое грузное тело. Она сидит, нога на ноге, и говорит о чём-то молодому человеку. Он смотрит во все глаза, и я про себя восклицаю: неужто влюблен? И что она ему выговаривает?
Но замечаю табличку «Предскажу судьбу».
Сивилла почувствовала взгляд — оборачивается, чуть подается вперёд, говорит: «Подойди, что скажу».
Улыбаюсь, качаю головой. Нет, нахальная пифия, в случае чего я и сама тебе предскажу. Прошлое принципиально предсказуемо. О будущем говорить не приходится.
В кафе «Турист», куда меня завлекло, главным образом, естественно, название — белые пластиковые стулья-кресельца. Высокий стакан с апельсиновым соком, рыжим на фоне моря, и белые салфетки на белых столах — так соблазнительно принять за волшебные признаки Большой Жизни. Дуновение подлинности. Сгущение. Вещественность.
Но уже открыто: вещественное и есть самое непрочное. Тот, скажем, ящик с детальками, какой стоял в сарае у деда Ивана. Я до сих пор, кажется, могу его вообразить себе с такой ясностью, так отчетливо, что повернись — вот он стоит. В нём вразнобой копились болты, гайки, кусочки проволоки, гвозди, подшипники, винтики, пружинки, шурупчики, шайбы — всё у деда лежало в строгом порядке до своего времени. Потом когда-нибудь, вдруг, пригождалось.
Хотя в основном не пригождалось.
Но главное — годилось. Как таковое.
А после смерти деда начало приходить в запустение. И я уже не знаю, где те болты, где те гайки, кусочки проволоки и гвозди… Куда подевались. Они казались такими надежными в собственном бытии. Так недвусмысленно, с холодным металлическим весом на ладони и тусклым поблескиванием — существовали. Ясно помню тяжесть в руке, холод металла гайки особенно крупной. Она словно только сейчас выкатилась из пальцев. Выкатилась — и исчезла. Как в фантастическом фильме.
Только — не фантастика. К сожаленью. Весомей. Самая что ни на есть жизнь. Которая как сон, одно слово. Точен старик Екклесиаст, или кто там — да все они твердили об одном и том же. И некоторые даже были правы.
А ещё в сарае вечно лежали под ногами кусочки жёлтой, золотистой соломы. Пахло зерном и сухим куриным пометом. На стене висела рыбачья сеть.
Неужели всё это и вправду было, спрашиваю себя.
То, что я вижу, не даёт оснований спокойствию — никак, даже косвенно, не подтверждает гипотезу о реальности того, утраченного мной мира. Принесли пельмени в горшочке, и я занялась ими вплотную. Заказав кофе, откинулась на спинку кресла.
В Италии, в столовой отеля, заедая обильный обед ледяным «сорбетто» из узкого бокала, после которого весь обед словно куда-то проваливался и я чувствовала себя в силах съесть ещё столько же, подолгу глядела, заглядывалась на одну изысканно постаревшую европейскую прелестницу.
Она сидела вполоборота… С изящным маникюром, волнистыми волосами, вовсе не замечала меня, вся погрузившись в созерцание моря, что открывалось из окна, и олицетворяла собой постаревшую красотку из всех чёрно-белых европейских фильмов сразу.
Было что-то такое в наклоне её головы, в нитке тусклого жемчуга, подлинного, разумеется, и во всём её облике, что я упивалась ею — и всё жалела, не владею итальянским, не могу даже спросить: «Фабиана, сколько у вас было мужчин? Какие они были? Расскажите».
Да и Фабианой ли её звали? Мальчишка, внук единственной, кроме нас, русской, остановившейся в том отеле, прозвал «мадам Фу-фу».
В ней была особой пробы спесь и явно какая-то тайна.
Может быть, не одна.
В Италии я бредила безостановочно. Ходила с широко раскрытыми глазами, как сомнамбула. Ждала средневекового монаха из-за каждого угла смирной давно декоративной Падуи. Городка типа Глазова. Итальянского Глазова.