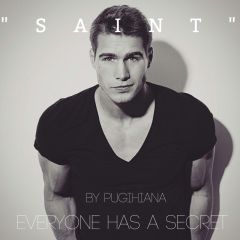Юкио Мисима - Солнце и сталь
А потом я услышал грохот, вой и увидел, как сквозь пелену дождя в сторону невидимых мишеней одна за другой тянутся ярко-оранжевые нити трассирующих снарядов. Целый час я сидел по уши в жидкой грязи, под проливным дождем, и наблюдал за стрельбами.
Или еще одно воспоминание.
Раннее декабрьское утро. Я бегу совершенно один по дорожке Национального стадиона. Вряд ли это занятие можно было причислить к категории «долга» — я, так сказать, предавался излишеству, но никогда еще не чувствовал себя так роскошно. Рассвет того дня принадлежал исключительно мне одному.
Итак, час восхода. Температура — ноль градусов. Стадион похож на чашу гигантской лилии, безлюдные трибуны — как огромные раскрытые лепестки, белые в черную крапинку. На мне только тренировочные штаны и рубашка, ветер пронизывает до костей; руки онемели. Когда я бегу под восточной трибуной, где еще царят сумерки, от холода захватывает дух; на западной стороне, уже освещенной первыми лучами солнца, дышится немного полегче. Я уже пробежал четыре четырехсотметровых круга, бегу пятый.
Солнце едва выглядывает из-за края белесых лепестков стадиона, небо еще окрашено в неуверенно-лиловые тона сумерек. Ночной ветер не торопится покидать затененную часть арены.
Я бегу, вдыхаю ледяной воздух, а заодно наслаждаюсь ароматами рассвета. Над стадионом витают самые разнообразные запахи: вот восторженное возбуждение разгоряченных зрителей; вот дезодорант, которым пользуются спортсмены; вот трепет ярко-красных, лихорадочно бьющихся сердец; терпкий аромат непреклонной решимости. Именно так благоухает ранним утром исполинская лилия спортивной арены, а кирпичная крошка беговой дорожки — как цветочная пыльца.
И тут мной всецело завладела одна идея: как скорбная лилия рассвета связана с чистотой плоти?
Сложнейшая метафизическая проблема настолько увлекла меня, что я начисто забыл о напряжении бега. Это был глубоко личный вопрос, возвращавший меня в отроческие годы, когда я любил лицемерно порассуждать о духе и плотской чистоте. Вновь возникла главная тема моего далекого детства — мученичество святого Себастьяна...
Я прошу читателя обратить внимание на то, что я ничего не пишу о своей повседневной жизни, — лишь о мгновениях мистического постижения, которые мне довелось пережить.
Бег тоже был актом мистическим. Он возлагал на сердце тяжелейшую нагрузку, которая чем дальше, тем больше вытесняла из моей жизни будничную рутину. Моя кровь уже не могла обходиться без этого бремени ни единого дня, я постоянно чувствовал, как меня погоняет невидимый кнут. Телу стало противопоказано состояние покоя, мышцы не давали мне расслабиться, требовали активного действия. Нормальный человек назвал бы мой образ жизни полнейшим безумием. Из спортзала я мчался на стадион, со стадиона — в спортзал. Наградой — наивысшей из всех наград — было чувство мини-воскрешения, посещавшее меня сразу после тренировки. Я уже не мог жить без таинства вечного движения, постоянного напряжения, непрестанного бегства от холодной объективности. Само собой разумеется, что в каждой из этих тайн мерцал огонек смерти.
Я и сам не заметил, как очутился под гнетом. Мне в затылок дышал возраст, шепча: «Сколько еще ты сможешь выдерживать такое?» Но порок физического здоровья овладел мною безраздельно; я уже не мог возвращаться в мир Слова без инъекции своих мини-воскрешений.
Это, конечно, не означает, что, возродив дух и тело, я обращался к миру Слова нехотя, лишь по зову долга. Наоборот, этот ритуал гарантировал, что мое возвращение будет радостным.
Мои требования к Слову все более ужесточались. Я старательно избегал всего, что связано с так называемым «новейшим стилем». Наверное, в глубине души я мечтал воссоздать чистую твердыню Слова, существовавшую в годы войны. Я хотел построить заново, по одному мне ведомым законам, крепость литературы, обитель свободы весьма парадоксального свойства: за ее стенами властвует принуждение, внутри же я совершенно волен в своих поступках.
И еще я стремился вновь испытать бездумное опьянение Словом — как в ту давнюю эпоху, когда я еще верил в его чистоту. То есть я пытался воскресить себя прежнего, источенного муравьями Слова, но теперь уже укрепленного стальными мускулами. Если бы только удалось воскресить времена, когда слова казались (хоть на самом деле, конечно, не были) оплотом счастья и свободы! Так ребенок терпеливо склеивает ломаную-переломаную игральную доску, за которой провел столько увлекательных часов. Возвращение в мир безгрешной поэзии, в Золотой Век — вот что означала для меня эта мечта.
Можно ли было меня семнадцатилетнего назвать невежественным? Ничего подобного. Я знал тогда все. За последующие четверть века к моему знанию не прибавилось ровным счетом ничего. Разница только в том, что в семнадцать лет я был не в ладах с реальностью.
С каким облегчением окунулся бы я вновь в то ощущение всезнания, оно освежило бы меня, как купание в жаркий день. Я исследовал страну своей юности весьма скрупулезно и теперь вижу, что Слово оборвало во мне совсем немного нитей и что радиация всезнания загрязнила довольно небольшой участок моей души. Я хотел использовать слова как зарубки на память, возвести из них мемориал, но применил неверную методику. Я не прибегал к помощи знания, отказывался от него, я выплескивал в слова свой бунт против эпохи; Слово служило мне для описания плоти (которой я тогда еще не обладал); как серебряные трубочки с посланием, привязанные к ноге почтового голубя, мои слова отправлялись в полет — навстречу будущему, навстречу смерти. Вы скажете, что тем самым я продлевал Слову жизнь, и будете правы, но то было поистине пьянящее занятие.
Выше я писал, что главная функция Слова заключена в мистическом ритуале записывания (то есть обрывания) мгновений, из которых состоит бесцветная дистанция, отделяющая нас от смерти. Так кропотливый труд вышивальщицы покрывает мелким узором ткань длинного белого пояса. И еще я писал, что дух, привыкая к подобным мини-финалам, перестает воспринимать непрерывность бытия и уже не может отличить истинный конец от поддельного — дух вообще перестает понимать, что такое Конец.
Что же значит Слово для духа, когда смерть придвигается вплотную и не видеть ее уже невозможно?
Ответ можно прочитать в прощальных письмах летчиков-камикадзе. Эти «экспонаты» выставлены на всеобщее обозрение в музее Этадзима.
Как-то на исходе лета я побывал там. Сильней всего меня поразил контраст между тем, как эти письма были написаны: одни (большая часть) — красивым, торжественным почерком, другие — кое-как, карандашом, явно наспех. Прогуливаясь вдоль стеклянных витрин и читая предсмертные послания юных героев, я внезапно нашел ответ на давно занимавший меня вопрос: что такое Слово для человека, находящегося на пороге гибели, — средство сказать правду или пьедестал для монумента?
Я очень хорошо помню полудетский почерк одной из записок, небрежно накаряканной карандашом на клочке рисовой бумаги. По-моему, текст запечатлелся в моей памяти дословно, в особенности же поразило меня то, как внезапно он обрывался:
«Сейчас я здоров, полон молодости и сил. Трудно поверить, что через каких-то три часа меня уже не будет. Но все-таки...»
Когда с помощью слов пытаются сказать правду, всегда спотыкаются. Я так и вижу этого парня, ищущего и не могущего найти слова. Он не испытывает ни смущения, ни страха, но такова уж особенность неприкрытой истины — она приводит Слово в замешательство. Ожидание встречи с абсолютом, бесцветное расстояние, отделявшее летчика от смерти, осталось позади; времени отсчитывать мгновения, играя словами, уже не было. Юноша бросился навстречу гибели, но тяга жить, подобно хлороформу, затуманила его волю, заставила дух, уже смирившийся со смертью, на миг замереть. Тут же на широкую грудь летчика, подобно ласковой кошке, проворно вспрыгнули привычные, повседневные слова — и были грубо отброшены решительной рукой.
Авторы прочих писем, тоже немногословных и немудрящих, предпочли благородные, мужественные формулировки: они писали о патриотизме, о ненависти к врагу, о том, что жизнь и смерть — одно и то же. В этих строках чувствуется желание отринуть все личные переживания, слиться с избранным героическим лозунгом.
Конечно, эти хлесткие фразы тоже состоят из слов. Но то особые, прекрасные слова, вознесенные на высоту, которая недоступна повседневности. Да, когда-то у нас были такие слова, но потом мы их утратили.
Их употребляли не для красоты; они были необходимы для того, чтобы человек совершил сверхчеловеческие деяния, ценой собственной жизни взмыл к заоблачным высям духа. Рожденные усилием воли, эти слова требовали отказа от своего «я»; они с самого начала не имели ни малейшей связи с обыденной психологией. Несмотря на расплывчатость заключенного в них смысла, слова-лозунги источали поистине неземное сияние; безличные и величественные, они начисто исключали индивидуальность — подвиг каждого становился камнем в основании коллективного монумента. Если героизм — понятие физическое, то он предполагает отказ от личностного, следование некоему классическому образцу, подобно тому, как Александр Македонский слепил себя по подобию Ахилла. Поэтому слова героя, в отличие от слов гения, должны быть благородны, но тривиальны, то есть избраны из числа уже существующих формул. Только тогда они будут истинным голосом тела.