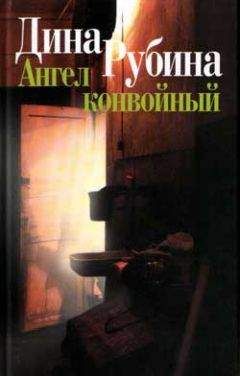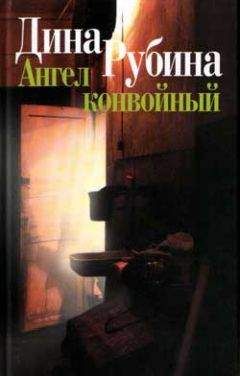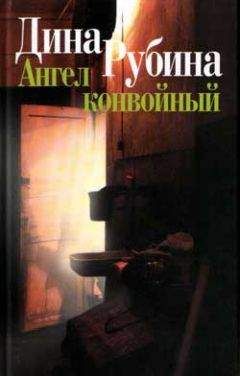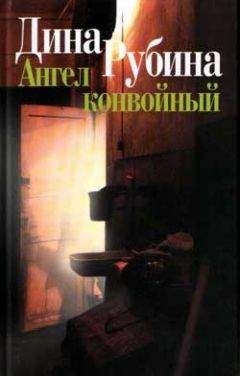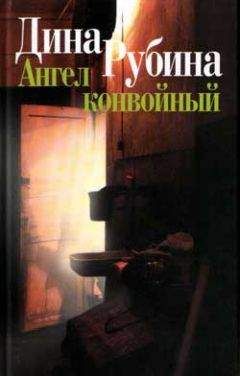Александр Гольдштейн - Аспекты духовного брака
Памятник славы
По четвергам посещаю укромный погост в глуховатом, наискосок от моря, тель-авивском квартале. Панцирные стены ограды, чопорная старость вросших в погребальные сюртуки сторожей, уже в три пополудни запирающих на засов кованый чугун ворот. Я называю смиренную территорию Кладбищем Улиц, здесь захоронены славные, здесь лежат праведные, ставшие магистралями, проспектами, парками израильских городов (у классика русского река народной торжественности проистекает из маленького родникового темечка в заповедной чащобе), отсюда, стало быть, улицы, отсюда и города, ибо это не просто кладбище, но аллея почетного упокоения во Сионе. Один человек, с которым я свел знакомство в кофейне и имя которого придержу до лучших времен, поскольку его биография такова, что ждать можно всего, хоть сегодня, недужный, больной от алчно культивируемых невоздержанностей, он и курице, зажав ее между тощих колен, не отрезал бы голову узким коллекционным кинжалом, владетель редчайшего, поливановского дара усваивать языки, коими унизывал свою злую мудрость, сверхчуткий Беренсон, кончиками пальцев улавливавший инфракрасные излучения икон, знаток старомонгольских заклинаний, холодного оружия, полинезийских ритуальных дефлораций, прощальных тайн на черепках сафедской каббалы, тайн, открывшихся ему с такой пронзительною горечью, словно письмена зарыдали, принужденные довериться иноверцу, греховному ни-во-что-не-верцу, но пора закруглить панегирик, не обнимающий даже четверти его опасных достоинств, как то: умения заворожить змею, окоченевшую под взором в томной бухте бат-ямского пляжа, соблазнить женщину или наслать порчу, проделав серию манипуляций над глиняной фигуркой врага, — он поведал мне, когда надобно приходить в мемориальную обитель евреев, и объяснил почему.
Мы, повторяю, сидели в кофейне. Широкие лопасти вентилятора отчаялись разогнать духоту. Псевдобогема изготовляла свои гадкие зелья. Долговолосый поэт съел яичницу с луком и пивом, промокнул шею обрывком туалетной бумаги и перелистал щепетильную десть рукописных трудов; почерк бесстыдно выбалтывал мочеполовые секреты, впрочем запущенные и утратившие занимательность. Корпулентную даму в легчайшей блузке, сетчатых чулках и с буколически румяным лицом тянущейся к искусству пастушки гладил в углу багровомясый посредник, показом страсти выражающий свою готовность к вольным нравам, — сопенье тоже было от показа, не от удовольствия. Разговор зашел о знаменитой азиатской войне, где мой собеседник служил переводчиком.
Ты думаешь, кровь запекается, усыхает, а она пенится, пузырится. Брызжет, мылится, вскипает. Прыгаешь ему на плечи, ногами зажимаешь локти, не обязательно руки, довольно и локти. И делаешь надрез на шее. Первый раз я сделал сильно, нож выскочил, как мыльница, нужна не сила, ловкая точность. Прыгнуть на плечи, поспев к седьмому позвонку. Кровь мылится, пенится, пузырится, вскипает. Они накачивали пленного морфием до бесчувствия, надрезали кожу и двумя лоскутами рвали ее вверх. Потом морфий переставал действовать, пленный сходил с ума от боли. Уже не чувствовал снова. Только глазами моргал, я смотрел в эти глаза. Это называлось: «красный цветок». Итак, ты спрашиваешь, в какое время года надлежит навещать усыпальницы избранных (я ни о чем подобном не обмолвился, я только думал о том неотступно, но снисходительным мановением длани соговорник погасил мой испуг, естественный в положении каждого, кто вдруг узнает, что видим насквозь). Рассмотрим вопрос, как он того требует, со всей обстоятельностью.
Осень в наших краях несущественна. Она входит в состав летней погоды продолжительностью шесть-семь месяцев и самостоятельного значения лишена, так что оставим в покое эти ужимки. Вопреки расхожему мнению, наделяющему климатическим совершенством ласковый период меж Пуримом и Пасхой, мы, со своей стороны, склоняемся предпочесть иную вескую паузу, меж Рождеством иль христианским Новолетием (с истовостью богомольного беса он осенил себя двуперстным знамением) и тем же Пуримом; прелесть ее несравненна. Собственно, это зима, а зимой в Тель-Авиве… — недурное начало… не для книги, для одного из фрагментов ее, передающего, пожалуй, настроение разлуки после встречи, — зимой в Тель-Авиве белое вино Клеопатры растворяет жемчужину. Я люблю этот нежный, изменчивый лепет, благорастворенность морских упоений, обжигающую сладость кофе к золотым сигнальным огням в быстрых масляных сумерках, к рано возжегшимся медным светильникам в антикварных лавчонках, уютный литературный бензин, пахнущий, ты уже догадался, духами, домовитость кондитерской выпечки, свежие водоросли, в этой смеси есть нечто или даже кое-что европейское, сродни той неостывающей влаге, по которой бык сплавил Европу. Эдак навообразишь себе, размечтавшись, призрак новой жизни — чуть было не сказал «невзначай» и, будь уверен, сказал бы, если б не заключительный, в ударной позиции, чайный слог этого слова, столь некстати роняемый в чашку кофе, сервированную десятком строк выше. Право, зима неподходящий сезон для того, чтобы молчаливый привратник иудейских Эребов руководил тобой в поисках нужных надгробий.
Поднесши сигарету к мотыльку свечного пламени, застольный компаньон наполнил речевой промежуток ободряюще-дружеским жестом в сторону поэта, оступившегося на пороге невинной, несмотря на разгульные стоны, дактилической горенки, дождался, пока несчастный встанет с колен, и, как написали бы некогда, продолжил рассказ.
Вероятно, ты замечал, что забредающие в наш город кочевники, непритязательные международные странники с первыми же глотками весны рассупонивают хомуты, сбрасывают штормовки, свитерки, фуфайки и подставляют себя, полуголых, воздушным потокам; всюду, где бы ни заставала их лень, они с непосредственностью дикарей гордятся своими до медного звона загоревшими телами, на грубых ли скамьях уличных едален (хуммус, картошка, пивные жестянки, мокрые ободки на столах в память о выпитом), около грязненьких постоялых дворов и ночлежных домов, средь базаров, текущих потом и фрук-товою сладостью, да мало ли подиумов. Бродягам хорошо в межсезонье. Скоро лето сварит нас заживо, но пока солнце медлит, колеблется у черты, чередуя тепло и прохладу. Ловите мгновение, рыбкам непостоянств и курьезов недолго сновать в прозрачных аквариумах. История, которую я собираюсь довести до твоего подслеповатого сведения, случилась минувшей весной на знакомом тебе, деликатно облизанном волнами участке прибрежной косы — там столики дешевой харчевни для якобы хипстерского ходячего племени, бывалых бабуинов и молодых игрунов (уистити, игрунка обыкновенная, как назван этот сорт обезьян в примечаниях к одному южноамериканскому автору), там столики стоят у воды, и усталые ступни паломников разомлевают в песочке. Два десятка мужчин, опустивших седалища в пляжные кресла, отличались демонстративным шестидесятническим единообразием, будто ангел померкшей эпохи напоследок задел их крылом. Все в трепаных джинсах, если не обнаженные торсы, то в линялых, с потеками и разводами, футболках, побывавших под кислотным дождем. Пересмеивались, лакали «Гиннесс», хрустели снедью из пакетов, внимали «Благодарным мертвецам» и «Аэроплану Джефферсона». Пейзаж, что окружал их тем светлым, рассеянным утром, являя подобие некой сферической театральности, — полторы жилые хибары, маленькая, неизвестного назначения пагода под черепичной кровлей, сомнительного колера насыпь, огрызок трубы, ржавое ведро, вышедшее из употребления до пожара Второго храма, наконец, возле самого задника — перестроенный из складской развалюхи гараж, в котором три грустных умельца калечили механизм, — пейзаж был сделан до исхода 60-х годов и означал расторгнутость с последовавшим миром. И даже не разрыв, а изначально полную непринадлежность, совершеннейшее неведение о позднейшем. Не было ни пижонских, воткнутых в береговой полумесяц гостиниц, ни автомобилей для нуворишей, ни нынешних одежек, вообще ничего, что касалось бы современности, связывалось с ней хоть пригоршней молекул. Похоже, я задремал и чуть не прошляпил Вудсток, кивнул я компании, но особый раскрой акустических линий заставил отнестись к собственной шутке буквально.
Какая-то власть, не вовсе отняв у звука звучание, вдруг упразднила в нем эхо, объем, глубину. Уничтожила гул, отгул, продолжительность, влажность — короче, натуральную жизнь. Только тряпка и вата, хрящ в горле, глухое покрытие. Тройная обмотка. Неразрешаемость голоса. Я вздрогнул. Говорящим ртам побродяжек мешал кляп. Бутылка, стукнувшись о соседнюю стеклотару, проглотила приветствие.
Музыка стала сдавленным фырканьем зародыша, томимого дурными предчувствиями. Даже извлеченный из рюкзака китайский гонг, когда в центр его вошел молоточек, вместо гнусавого пения щелкнул, выстрелил, клацнул — сердитая встреча бильярдных шаров, распря грецких орехов, скорлупой о скорлупу. Неужто и раковина? — похолодел я без знака вопроса. Она была пуста, кровь и прибой исчезли. Пустое ухо. Это бывает во сне, или когда мимовольно попадаешь в прошедшее время, или весной, и, с трудом переступая ногами, обувшимися в свинцовые сапоги, я пошел прочь из апрельского гиблого логова, уже и зрительно искривляемого действием волн и частиц. (Поэт объявил «Вторую элегию аиста и кузнечика», пастушка захлопала, мой собеседник мерно рокотал; преимуществом кофейни было то, что гомон не стихал в ней и на пике стиходекламаций.) Остается лето. О его приближении ты узнаешь по отдаленному шуму, с каким из-под сорванной крышки хлынет смола. Не трудись описывать, уже сложился канон. Листом горячего металла водят вдоль кожи, постоянное пребывание в душегубке, не забудь о внутренних органах, переворачивающихся от кульбитов давления атмосферы. А мы скажем так: всепожирающая ясность. Зима успокаивает, весна морочит, идет на подлог, лишь лето есть безраздельная ясность, а дни его, не отличимые друг от друга, — цельная повесть и длительность, тождественная себе в каждой сюжетной корпускуле, оттого и содержится она вся в каждом из этих крохотных узелков. Больше медлить нельзя. Встань часов в семь, строгий пост до одиннадцати, и от питья воздержись, «если хватит сил», так, с помощью жалкого уклоненья от сути, оправдывают недохватку решимости, ни от каких физических сил не зависящую. Больше медлить нельзя, уже заждался сторож, вы не сговаривались, он догадался без слов. Как опытный метрдотель по зрачкам посетителя узнает об истинных потребностях его желудка, прикидывая безупречное, к вящей пользе клиента, соотношение вин и закусок, так приснотраурный привратник по сбивчивым пунктирам пульса отведет именно к той из могильных плит, где солнце, не сдерживаемое пирамидальной кроной кипарисов и пыльной хвоей туевых деревьев, обрушивается отвесно, а также слева, справа, спереди и сзади, с ослепляющим рвением тьмы.