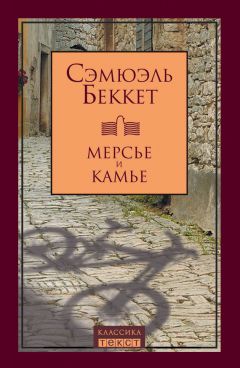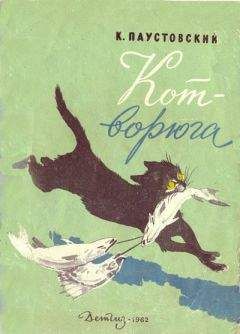Сэмюэль Беккет - Мерсье и Камье
И действительно, понемногу Мерсье стало лучше — лучше, чем до того, как стошнило.
— Это все мрачные мысли, которые крутились у меня в голове, — сказал Мерсье, — с тех пор, как ты ушел. Я даже думал, не покинул ли ты меня.
— И оставил тебе плащ? — сказал Камье.
— Есть все основания покинуть меня, я знаю, — сказал Мерсье. — Он задумался на мгновение. — Поэтому Камье не покидает Мерсье, — сказал он.
— Ты можешь идти? — сказал Камье.
— Я пойду, будь уверен, — сказал Мерсье. Он встал и сделал несколько шагов. Ну как? — сказал он.
— Плащ, — сказал Камье, — почему бы не бросить его? Что в нем хорошего?
— Он смягчает действие дождя, — сказал Мерсье.
— Саван, — сказал Камье.
— Ты заходишь слишком далеко, — сказал Мерсье.
— Хочешь знать мое настоящее мнение? — сказал Камье. — Тот, на ком он надет, не менее жалок духовно и физически, чем тот, на ком его нет.
— Что-то в этом есть, — сказал Мерсье.
Они разглядывали плащ — как он там лежит, распластанный, возле насыпи. Он выглядел освежеванным. Трепеты клетчатой подкладки, чья призрачная ткань, казалось бы оторванная уже повсюду, еще держалась в районе плечей. Более бледное желтое отмечало участки, где сырость пока насквозь не просочилась.
— Уйдем отсюда, — сказал Камье.
— Откинем его? — сказал Мерсье.
— Пускай лежит, где лежал, — сказал Камье, — не нужно лишних усилий.
— Я хотел бы его швырнуть, — сказал Мерсье.
— Пускай лежит там, — сказал Камье. — Следы от наших тел скоро исчезнут. Под действием солнца он съежится, как мертвый лист.
— Мы могли бы его закопать, — сказал Мерсье.
— Не будь сентиментальным, — сказал Камье.
— Иначе кто-нибудь придет и заберет его, — сказал Мерсье, — какая-нибудь вшивая скотина.
— А нам какая забота? — сказал Камье.
— Правда, — сказал Мерсье. — Но все-таки.
Камье зашагал прочь. Чуть погодя Мерсье нагнал его.
— Ты можешь опереться на меня, — сказал Камье.
— Не сейчас, не сейчас, — сказал Мерсье раздраженно.
— Что ты все время оглядываешься? — сказал Камье.
— Он шевелится, — сказал Мерсье.
— Прощается с нами, — сказал Камье.
— Мы, случаем, ничего не оставили в карманах? — сказал Мерсье.
— Пробитые билеты всех сортов, — сказал Камье, — горелые спички, газетные клочки, на полях у которых стершиеся планы неотменимых рандеву, классическую одну десятую тупого карандаша, комки использованной туалетной бумаги, несколько дырявых гондонов, пыль. Жизнь, одним словом.
— И нам ничего не может понадобиться? — сказал Мерсье.
— Ты что, не слышал, что я сказал? — сказал Камье. — Жизнь[31].
Они немного прошли в молчании, как время от времени имели обыкновение.
— Потратим хоть десять дней, если потребуется, — сказал Камье.
— Транспортом больше не пользуемся? — сказал Мерсье.
— То, что мы ищем, не обязательно должно быть на краю света, — сказал Камье, — так что пусть нашим девизом станет.
— Ищем? — сказал Мерсье.
— Мы странствуем не из любви к странствиям, насколько я знаю, — сказал Камье. — Можно быть мудаками, но не до такой же степени.
Он бросил холодный взгляд на Мерсье.
— Не давись, — сказал он. — Если тебе есть, что сказать, скажи сейчас.
— Я думал кое-что сказать, — сказал Мерсье, — но по зрелом размышлении оставлю это при себе.
— Эгоистичная свинья, — сказал Камье.
— Продолжай ты, — сказал Мерсье.
— На чем я остановился? — сказал Камье.
— Пусть нашим девизом станет, — сказал Мерсье.
— Ах да, — сказал Камье, — lente, lente[32], и осмотрительность, с уклонениями вправо и влево и внезапными изменениями курса. И без малейших колебаний останавливаться, на целые дни и даже недели в конце концов. Вся жизнь перед нами, весь, то есть, оставшийся нам от нее чинарик.
— На что там сейчас похожа погода? — сказал Мерсье. — Если я посмотрю вверх, я упаду вниз.
— Похожа, на что всегда похожа, — сказал Камье, — с той маленькой разницей, что мы начинаем к этому привыкать.
— Мне показалось, я почувствовал капли на щеках, — сказал Мерсье.
— Ободрись! — сказал Камье. — Мы приближаемся к станции проклятых, я уже вижу шпиль.
— Слава Богу, — сказал Мерсье, — теперь мы сможем немного отдохнуть.
V
День наступил наконец, когда — только подумать! — опять город, сперва предместья, затем и центр. Представление о времени они уже утратили, но все указывало на воскресенье или еще по какому-нибудь случаю выходной: улицы, звуки, прохожие. Темнело. Они рыскали по центру и не знали, куда им направиться. В конце концов, по предложению Мерсье, чья, похоже, наступила теперь очередь быть вожатым, они двинулись в «У Хелен».
Хелен была в постели, немного нездорова, но поднялась тем не мене и впустила их, не без того, чтобы крикнуть сперва из-за двери: Кто это? Они рассказали ей о последних событиях, о своих надеждах, как разбитых вдребезги, так и еле теплящихся. Они описали, как их преследовал бык. Она вышла из комнаты и принесла зонт. Камье проделал с ним все положенные манипуляции.
— Но он в порядке, — сказал Камье, — в полном порядке.
– Я его починила, — сказала Хелен.
– Пожалуй, если такое возможно, даже в более полном, чем прежде, — сказал Камье.
– Если возможно, то пожалуй, — сказала Хелен.
– Он открывается как мечта, — сказал Камье, — а когда я отпускаю — чик! — защелку, он складывается сам собой. Я открываю, я закрываю, раз, два, чик, плюм, чик, пл…
– Остановись, — сказал Мерсье, — пока ты опять его не сломал.
– Я немного нездорова, — сказала Хелен.
– Не лучшее предзнаменование, — сказал Камье. А вот сака нигде не было видно.
– Я не вижу попугая, — сказал Мерсье.
– Я выпустила его за городом, — сказала Хелен.
Ночь они провели тихо, по их меркам, и без какого-либо рода распутств. Весь следующий день они оставались в доме. Время имело свойство едва ползти, и они манступрировали[33] вполсилы, не утомляясь. Возле жаркого пламени, в двойном свете: лампы и свинцового дня, они, их смешавшиеся голые тела, разнежено корчились на ковре, касаясь друг друга и ласкаясь с томным тактом рук, составляющих букет, покуда дождь колотил в оконное стекло. И как это, наверняка, было восхитительно! К вечеру Хелен выставила несколько марочных бутылок, и они удовлетворенно отошли ко сну. Люди менее упорные могли бы и не устоять перед искушением так вот все и оставить. Их же середина следующего дня застает снова на улице, и не имеющими мысли иной, кроме как о цели, назначенной ими себе. Всего лишь несколько часов — и опустятся сумерки, ночь, всего лишь несколько свинцовых часов, так что нельзя терять времени. Хотя даже полная — за исключением уличных фонарей полная — темнота отнюдь не стала бы помехой их поискам, а могла им, напротив, только поспособствовать в конечном счете. Ведь до места, куда они наметили теперь добраться, и куда едва знали дорогу, им было бы проще добираться ночью, а не днем, поскольку в тот раз, когда они добирались туда прежде, один-единственный раз, было это вовсе не днем, а в сумерках, ночью. А потому они пошли в бар, ибо именно в барах Мерсье века сего, и Камье, находят наименее неприятным дожидаться темноты. Имелась у них для этого и другая, пусть не столь веская причина: преимущества, которые можно было извлечь, и на ментальном уровне тоже, из погружения, глубокого как только возможно, в ту самую атмосферу, что придавала такую шаткость их первым шагам. За дело они взялись поэтому без промедления. Слишком многое поставлено на карту, — сказал Камье, — и мы не можем позволить себе пренебрегать элементарными предосторожностями. Таким образом единым выстрелом они поражали двух зайцев, и даже трех. Ибо они использовали передышку, чтобы поговорить откровенно о разных вещах, с большой для себя пользой. Потому что именно в барах Мерсье этой чудесной планеты, и Камье, разговаривают наиболее откровенно, с наибольшей пользой. В конце концов большой свет разлился в их умах, оросив, в частности, следующие концепции:
1. Нехватка денег — безусловное зло. Однако она может обернуться ко благу.
2. Утраченного не вернешь.
3. Велосипед — великое благо. Однако может обернуться бедой, если неверно его использовать.
4. Быть конченным человеком — тут есть о чем подумать.
5. Существуют две потребности: потребность, которую ты испытываешь, и потребность испытывать ее.
6. Интуиция приводит ко многим глупостям.
7. То, что изрыгается, отнюдь не даром пропадает.
8. Карманов, в которых все меньше остается с каждым днем от последних ресурсов, достаточно, чтобы отказываться даже от того, что твердо решено.