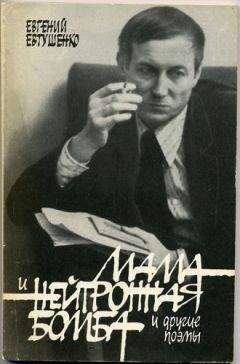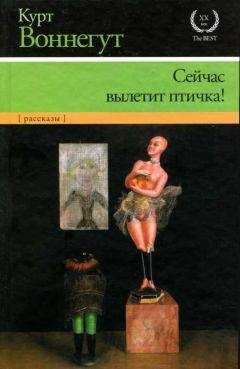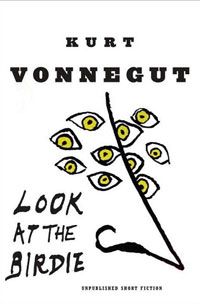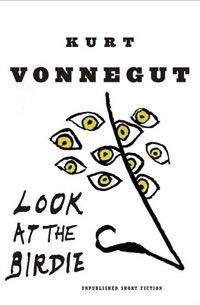Мюриэль Барбери - Лакомство
За столом тем временем переключились на дичь, которая безбоязненно разгуливала по лесным дорогам. Речь зашла о некоем Жермене, который однажды безлунной ночью сшиб невесть откуда выскочившего кабана, в темноте счел его мертвым, закинул в багажник («Еще бы, представляете, этакий случай!») и поехал дальше, а кабан постепенно пришел в себя и стал биться в багажнике («оклемался и затряс колымагу как грушу…»), да с такой силищей, что разнес машину, после чего только его и видели. Все четверо хохотали как дети.
«Остатки» (хватило бы полк накормить) пулярки. Изобилие сливок, ломтики сала, чуть-чуть черного перца, картошка — похоже, с Нуармутье[5], — и ни грамма жира.
Разговор снова изменил русло и потек извилистыми путями местных спиртных напитков. Добрые, поплоше, вовсе пойло; домашние настойки, сидр — слишком перебродивший, из гнилых яблок, из плохо помытых, плохо протертых, не вовремя собранных; кальвадос из супермаркета — сироп, да и только, и настоящий — рот дерет, зато какой букет! Дружный хохот вызвал самогон некоего папаши Жозефа: дня дезинфекции в самый раз, но не для питья!
«Вы уж не обессудьте, — извинилась передо мной хозяйка, выговор у нее был иной, чем у мужа, — сыру не осталось, я ближе к вечеру поеду за покупками».
Я узнал, что пес Тьерри Кулара, славный кабыздох, известный своей трезвостью, однажды случайно вылакал лужицу под бочкой и, то ли с непривычки, то ли и впрямь отравившись, упал замертво, тут бы бедняге и конец, да крепкая оказалась псина на диво, выжила. Они держались за бока от смеха, и я тоже с трудом переводил дыхание.
Кусок яблочного пирога — нежнейшее, рассыпчатое, хрустящее тесто, дерзко-золотистые ломтики, присыпанные скромными карамельными кристалликами. Я допил бутылку до дна. Пробило пять, когда хозяйка подала мне кофе с кальвадосом. Мужчины поднялись, похлопали меня по спине: им пора работать, если я останусь до вечера, они будут рады меня видеть. Я по-братски обнялся со всеми и обещал как-нибудь заехать с доброй бутылочкой.
У векового дерева на ферме близ Колевиля, под аккомпанемент шальных кабанов, трясущих колымаги как груши к вящей радости собеседников, имеющих случай об этом рассказать, я отведал один из лучших в своей жизни обедов. Еда была простая и вкусная, но и еще кое-чем я насытился, да так, что устриц, ветчину, спаржу и пулярку можно отнести к разряду второстепенных аксессуаров, — то была их сочная, живая речь, грубоватая, с неряшливым синтаксисом, но согревающая душу какой-то юной неподдельностью. Я лакомился словами, да-да, словами, брызжущими из их мужских крестьянских посиделок, теми самыми словами, что иной раз доставляют куда больше удовольствия, чем телесная пища. Слова-ларцы, в них складывают отринутую действительность, и они превращают ее в мгновения-перлы; слова-чародеи, они преображают лик повседневности, жалуя ее правом стать незабываемой, занять место в библиотеке воспоминаний. Жизнь есть жизнь лишь в силу нерасторжимого сплава слова и события, в котором первое облекает второе в свое парадное одеяние. Вот и слова моих случайных друзей на час, осенившие трапезу несказанной красотой, стали, в сущности, главным угощением на пиру, и я, почти сам того не желая, с такой радостью воздал должное не столько пище, сколько речи.
Приглушенный шорох вырывает меня из грез: мой слух меня не обманывает. Из-под опущенных век я вижу, как Анна крадучись проскользнула по коридору. Только моя жена умеет передвигаться без движения, только ее походка как будто и не дробится, как у всех, на шаги — я всегда подозревал, что эта аристократическая плавность была создана лишь для меня одного. Анна… Если б ты знала* какое блаженство вновь пережить тот почти нереальный день между хмелем и лесом, как сладко пить, запрокинув голову, вечность слов! Быть может, в этом суть моего призвания — на стыке сказанного и съеденного… а вкус по-прежнему ускользает, дразня… Мысли увлекают меня к былой жизни в провинции… большой дом… прогулки по полям… и мой пес бежит рядом, веселый и простодушный..
[Венера]
Улица Гренель, письменный стол
Я маленькая Венера, древняя богиня плодородия с белым алебастровым телом; у меня широкие пышные бедра, выпуклый живот и груди, ниспадающие до самых ляжек, округлых, крепко прижатых друг к другу в стыдливой позе, вызывающей улыбку. Я больше женщина, чем трепетная лань: все во мне взывает к плоти, а не к созерцанию. Он, однако, смотрит на меня, все время смотрит, когда поднимает глаза от бумаги и, размышляя, устремляет на меня невидящий сумрачный взгляд. Но порой он пристально в меня вглядывается, силясь проникнуть в душу неподвижного изваяния, и я чувствую, что вот-вот ему откроется что-то, и он поймет, и откликнется, однако же он вдруг опускает глаза, и меня охватывает досада, будто я подсматривала за человеком, который гляделся в зеркальное стекло, не подозревая, что оттуда, из-за стекла, кто-то за ним наблюдал. А иногда он трогает меня, поглаживает пальцами мои зрелые женские формы, водит ладонями по моему лицу без черт, и поверхность слоновой кости, из которой я сделана, ощущает исходящие от него флюиды неукрощенного зверя. Когда он садится за письменный стол, дергает шнурок большой медной лампы, и луч теплого света падает на мои плечи, я возникаю из ниоткуда, я всякий раз рождаюсь заново, этим светом сотворенная, но таковы для него и люди из плоти и крови, что проходят через его жизнь: они отсутствуют в его памяти, когда он их не видит, а появившись вновь в поле его восприятия, присутствуют, непостижимые для него. На них он тоже смотрит невидящими глазами, ищет их ощупью как слепой, что шарит перед собой руками и думает, будто схватил что-то, а на самом деле он ловит лишь дым, обнимает лишь пустоту. Его проницательные, умные глаза застит незримая пелена, она мешает ему видеть, пряча в тумане то, что он мог бы озарить светом своего ума. И пелена эта — его норов тирана до мозга костей, пребывающего в вечном страхе, что ближний окажется не просто вещью, которую он может убрать с глаз долой, в вечном страхе, что ближний, если на то пошло, будет недостаточно свободен, чтобы признать его свободу…
Когда он ищет меня и не находит, когда, отчаявшись, опускает глаза или дергает за шнур, чтобы я перестала существовать, он прячет, прячет, прячет сам от себя то, что ему невыносимо. Свое желание ближнего, свой страх перед ближним.
Умри же, старый человек. Нет ни покоя, ни места тебе в этой жизни.
Пес
Улица Гренель, спальня
В первое время нашей дружбы я не переставал поражаться тому, с каким бесспорным изяществом он садился: расставив для упора задние лапы, постукивая хвостом по полу с регулярностью метронома, показав голый розовый животик, собиравшийся в складочки под поросшей пушком грудью, пружинисто опускал зад и вскидывал на меня глаза цвета жидкого ореха, в которых много раз мне виделся не только аппетит, но и кое-что иное.
У меня был пес. Черный нос на четырех лапах. Маленькое средоточие антропоморфических проекций. Верный друг. Неугомонный хвост, задававший ритм эмоциям. Перевозбужденный кенгуру в лучшее время дня. Когда он появился в доме, его тельце в пухлых складочках, пожалуй, располагало к глуповатому умилению; но всего через несколько недель толстенький комочек превратился в голенастого щенка с четко очерченной мордочкой, ясными озорными глазами, любопытным носом, мощной грудью и мускулистыми лапами. Это был далматин, и я назвал его Реттом, в честь «Унесенных ветром», моего любимого фильма: я всегда знал, что если бы родился женщиной, то был бы Скарлетт — той, что выживает в агонизирующем мире. Его белоснежная, в аккуратных черных пятнышках шерсть была изумительно шелковистой; далматин вообще шелковистая собака, и на ощупь, и на вид. Но при этом отнюдь не елейная: нет ни лести, ни слащавости в симпатии, которую с первого взгляда внушает эта порода, но лишь естественное тяготение к ласковой искренности. Когда же он вдобавок склонял набок голову, прижав уши, каплями ниспадающие до самых брыл, я не жалел, что понял, насколько любовь к животному влияет на наше представление о самих себе, — до того в эти минуты он был неотразим. Впрочем, это ведь почти аксиома, что по прошествии некоторого времени совместной жизни хозяин и его собака заимствуют друг у друга многие черты. Вот и Ретт, вообще довольно дурно воспитанный — и это еще мягко сказано, — имел недостаток, в котором не было ничего удивительного. Назвать его прожорливостью было бы явным преуменьшением: он страдал поистине маниакальной булимией. Если на пол роняли, к примеру, листик салата, он бросался к нему в великолепном пике, которое завершалось скольжением с упором на передние лапы, глотал целиком, не жуя, — так боялся, что отнимут, — и, я уверен, только задним числом распознавал, что ему на сей раз перепало. Его девиз можно было бы сформулировать так: «Сначала съем, разберусь потом», и я думал порой, что мне досталась Единственная в мире собака, для которой желание есть важнее, чем сам факт утоления голода: большую часть своей энергии он употреблял На то, чтобы постоянно быть там, где мог надеяться стянуть что-нибудь съедобное. Нет, он не унижался до воровских уловок, но безошибочным чутьем стратега определял, где что-то плохо лежало, будь то забытая на гриле сосиска или раздавленный чипе, оставшийся на полу после аперитива на скорую руку. Особенно ярко (и даже драматически) эта его неукротимая страсть к еде проявилась в одном более серьезном инциденте. Это было на Рождество в Париже, у бабушки с дедом. Праздничный ужин, по старинному обычаю, полагалось завершить «поленом», любовно приготовленным бабушкой; это был простой бисквит, свернутый в рулет и прослоенный жирным кофейным или шоколадным кремом, — простой-то простой, но с налетом великолепия, как всякий шедевр. Ретт, полный сил, резвился по всей квартире, кто-то гладил его, кто-то украдкой подкармливал, уронив невзначай лакомый кусочек на ковер за спиной моего отца, так что с самого начала ужина он, чтобы ничего не упустить, сновал кругами (коридор, гостиная, столовая, кухня, снова коридор и т. д.). Первой заметила его долгое отсутствие сестра отца, Мари. Тут и я тоже, вместе с остальными, осознал, что в самом деле давно не было видно белого колышущегося султана над спинками кресел — знака, что наведался пес. После короткой паузы мы с отцом и матерью вдруг поняли, что случилось. Точно подброшенные одной пружиной, мы вскочили из-за стола и кинулись в спальню, куда бабушка, зная повадки нашего проказника и его аппетит, предусмотрительно спрятала драгоценный десерт.