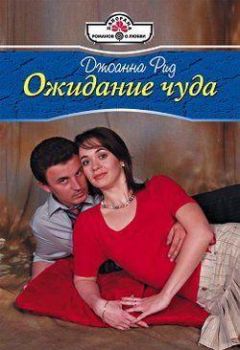Леонид Бородин - Год чуда и печали
— Что, язык откусил от страха? — спросила она.
Я же никак не мог сообразить, что нужно сказать. Мне надо было туда, в скалу, а с этой злой старухой я вообще не собирался разговаривать.
— Я хотел... — промямлил я. — Я думал...
— Ты думал! — она затряслась в хихиканье, заколыхалась в голубом. — Ты умеешь думать! Вот уж чего о тебе не скажешь! Разве в твоей цыплячьей голове есть то, чем люди думают!
Это уж было слишком. Я зло нахмурился и засопел.
— Ух, как страшно! — притворно вскрикнула она. — Чего же ты так долго думал, что я даже успела позабыть о тебе!
— Болел!
— Болел! — ахнула она. — Это, наверное, тебя с того страха икота поразила, и тебя молоком отпаивали!
— А я и не к вам пришел! — выпалил я. Чего с ней разговаривать да объяснять!
Старуха надменно скособочилась.
— Очень мне нужно, чтобы ты ко мне приходил! У меня в прошлый раз от твоего квакания да писка три луны голова болела!
И все-таки она обиделась!
— Ладно, — проворчала она, — иди, куда пришел. Только придет время, ты пожалеешь о том, что узнал сюда дорогу!
"Каркай! Каркай!" — шептал я, направляясь к камню.
На камень навалился не без робости. Такой он был большой, что, сдвинув его однажды, все равно не верилось, что это возможно.
По пещере, по комнате с телескопами, по оружейной я проскочил не задерживаясь, лишь коснувшись рукой одной из труб, лишь кинув взгляд на сверкающие мечи и кинжалы. Зато с последней ступеньки в зал с колоннами ступил тихо и замер, всматриваясь в силуэты тех, что видны были в противоположном конце зала. И подходил к ним тихо, не слыша собственных шагов. Но все равно за несколько шагов до возвышения, когда я еще не успел остановиться, снова, как и тогда, поднял голову черный щенок с коричневыми надглазниками. Но я смотрел не на него. Я смотрел на девочку. За эти дни я уже успел забыть, какая она красивая и необыкновенная и печальная даже во сне. И снова все мои мысли и намерения были вытеснены обжигающей сердце жалостью.
Она так же сидела, склонив голову на руку отца, и волосы ее, перехваченные на голове голубой ленточкой, спадали на колени старика, и рука его так же лежала на ее волосах, как он положил ее в прошлый раз, будто и не прошло с тех пор столько дней, а будто я вернулся сюда, лишь выйдя на минуту.
Она подняла голову и посмотрела на меня, словно припоминая что-то, но так было только — мгновение, а сразу затем я уловил мимолетное, но несомненное выражение радости на ее лице. И отец ее тоже смотрел на меня, правда, не поднимая склоненной головы, а как бы сквозь брови, но и в его взгляде не было ничего плохого.
— Сарма разрешила тебе приходить сюда? — спросила девочка.
— Разрешила, — ответил я не очень уверенно, потому что кто ее знает, старуху, разрешит она прийти еще раз потом или нет!
— Скажи ей, Байколла благодарит ее за доброту! В его голосе не было насмешки. Он искренне благодарил ее! Но за что?! Значит, подумал я, он действительно виноват перед Сармой, значит, он и вправду убил ее сына! А девочка? Она никого не могла убить!
— Расскажи нам, — попросила она, — что теперь там, в долине!
— В долине? В какой долине?
— Дочь моя, там больше нет долины! — с болью и горечью возразил ей отец.
— Да... — печально согласилась она. — Там больше нет долины! Но ты... там, где живешь... и другие люди с тобой... расскажи!
— Там озеро, я же прошлый раз говорил, и оно называется Байкалом!
— Ты неправильно произносишь это слово, почему?
Я пожал плечами.
— Так все говорят, и в книгах так написано и в картах!
— У людей твоего племени есть книги и карты? — спросил отец девочки, и, пожалуй, он был не столько удивлен, сколько обрадован.
Я понял, что они не представляют нашей жизни, что если начать им рассказывать, то никакого времени не хватит, а мне надо узнать, почему они здесь, кто они, кто такая Сарма? Мне все нужно было узнать. И я ответил вопросом на вопрос.
— А вы... почему вы здесь? А долина... где она была?
Девочка растерянно взглянула на отца, словно спрашивая разрешения. Но он молчал и смотрел на меня спокойно, и не знаю, видел меня или нет.
— Сарма разрешила тебе спрашивать об этом? — осторожно спросила девочка.
"Как они ее боятся!" — подумал я. Старуха не разрешала мне спрашивать, но ведь и не запрещала. Я решил слукавить.
— Она велела мне молчать обо всем, что я узнаю...
— Отец, можно мне рассказать ему предание? — робко спросила девочка.
— Сарма знает, что делает, если пустила его сюда! Расскажи! — Он опустил голову на грудь и закрыл глаза.
— Тебе нужно сесть! Предание нельзя слушать стоя!
Глаза ее заблестели, оживились, и вся она стала еще прекрасней, и я мог только догадываться, какой она была бы, если бы смеялась или улыбалась, если бы вывести ее отсюда на солнце, на берег Байкала, если осыпать цветами...
Я хотел сесть на возвышение, где стояли их кресла, но пол был мраморный и холодный, и я, вспомнив, бегом кинулся в верхний зал, схватил там с пола первую попавшуюся под руку медвежью шкуру, приволок ее и расстелил у ног девочки рядом с щенком.
Глаза девочки горели. Она уже не обращала на меня внимания, с нетерпением дожидаясь, когда я буду готов ее слушать.
— Готов ли ты? — спросила она строго. Я кивнул головой и замер.
— Давно, давно, — начала она, — когда ночи людей были темны и в небе еще не было месяца, на берегу далекого океана жило великое племя смелых и добрых людей. Люди ловили рыбу в океане и охотились на зверей в тайге, что была вокруг, люди делали из дерева и камня прекрасные вещи и дарили их друг другу. У людей было все, что нужно для счастья, и потому они не пели песен о счастье, но были их песни счастливыми.
Но однажды из океана вышла черная смерть и накинулась на людей племени, не щадя ни малых, ни старых, ни мужчин, ни женщин.
Смерть подкарауливала людей на берегу и на воде, пробиралась в дома и выслеживала людей на таежных тропах, и не было никому спасения, и не было никому защиты, потому что знахари и колдуны умирали наравне со всеми, и мудрость их была бессильна перед смертью, вышедшей из океана.
Старейшие люди племени с утра до ночи думали о том, как спасти свой народ, и многие умирали в думах, не дожив до следующего утра.
Люди перестали трудиться, потому что ждали своей смерти, и утром, просыпаясь, лишь удивлялись, что живы еще, и уже не скорбели, не найдя среди живых кого-нибудь из своих близких.
Замолкли в селениях песни и голоса, люди перестали выходить из домов, люди начали умирать от голода, потому что никто не хотел идти в океан или тайгу, а хотел умереть дома.
Но вот пришли к старейшим четверо братьев, самых отважных охотников племени. Старшего из них звали Байколлой, другого Баргуззи, третьего Ольхонной, а самого младшего звали Бурри.
Сказали братья старейшим, что охотничьими тропами уходили они далеко от побережья и видели за тайгой, куда уходит солнце, страну голубых гор, видели стада оленей и кабанов, уходящих в ту сторону во время таежных пожаров, видели стаи птиц, улетающих туда по весне.
Где могут жить зверь и птица, может жить и человек! А смерть, порождение океана, может быть, у океана она и останется!
И предложили братья увести племя в ту далекую страну, куда и дорог не было, где никто не бывал, откуда никто не приходил.
Девочка замолчала. Она была взволнована, а в ее глазах была радость и была гордость, и голос дрожал, и руки крепко сжимали подлокотник кресла.
— Ты слушаешь меня? — спросила она строго.
— Да, да, рассказывай!
— Не было у людей другой надежды на спасение, и, похоронив мертвых, забрав с собой лишь самое необходимое и дорогое, положив на носилки умирающих, но не умерших, двинулось племя в глубину тайги, куда вели их отважные братья-охотники.
Забеспокоилась, засуетилась смерть. Не хотела отпускать она людей, погналась за ними по таежным сумеркам, нагнала на ночном привале и поразила первого, о кого запнулась в темноте.
Утром люди похоронили умерших и двинулись дальше, но торопилась и смерть. Она настигала людей и, войдя в одного к вечеру, утром уже цеплялась за одежду другого, а в полдень сжимала горло третьему.
А люди шли и шли и уже далеко ушли от океана. Смерть же боялась не найти дороги назад и злилась и свирепела.
Уже дошли люди до первых гор, ущелий и пропастей, когда смерть догадалась, наконец, кто уводит от нее людей, и ночью она вползла в сердце одного из братьев, которого звали Ольхонной. А утром люди проснулись от его громкого голоса. Ольхонна стоял на скале, на краю пропасти, и кричал людям:
— Братья! Смерть вошла в меня! Глубока пропасть, и пока смерть будет выбираться из нее, спешите уйти как можно дальше!
С этими словами он кинулся в пропасть, а люди, вскочив на ноги и взвалив на себя больных и уставших, кинулись прочь, туда, куда вели их трое оставшихся братьев, ни слова не проронивших с утра до самой ночи.