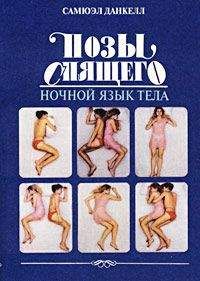Эмиль Айзенштрак - Диспансер: Страсти и покаяния главного врача
Потом, когда она у нас появилась, я благородно возмущен: а ведь так волновался — убили, похитили?! А она гуляла, а девочки за нее работали. И что же она сделала со своими родителями? Да как она смеет отцу теперь в глаза смотреть! Такому отцу, такому папочке!
Из этой удобной позиции, защищая папочку, я могу переть на нее, как хочу: папочка мне за это ничего не сделает, я же на его стороне.
— К работе не допущу тебя, — говорю, — пока не извинишься перед отцом.
— Плевала я на него, — говорит она.
Я потрясен, как послушник, в присутствии которого осквернили Имя Господне.
— Твой отец, — кричу, — заслуженный старый работник (и воздымаю руки к потолку). Да каждый из нас ему обязан, мы у него учимся, каждое его слово для нас — закон. Не только тебе он отец, всем он нам отец. Так пойди же и скажи ему: «Папа, прости меня, непутевую, никогда больше в жизни…».
— Да плевала я на него и на вас, будьте вы прокляты.
Она меня прерывает и удачно ставит в одну компанию со своим папочкой. И в ярости пишет заявление об уходе, и я подписываю его этим же числом, и она исчезает из моего кабинета, а через пару минут и приказ готов, и печать проставлена.
Здесь я остановлюсь и подумаю о внуках. Они же не поверят. Дотошный внук возьмет закон о труде тысяча девятьсот моего времени, перечитает параграфы и найдет, что работника можно уволить после трех выговоров, подтвержденных местным комитетом. А пьяного — так и сразу, если два свидетеля найдутся. Для чего же эти психологизмы и трюки? Не проще ли набрать три выговора (а ведь есть за что!) или за пьянку сразу? Но вот никто почему-то этого не делает. Не слышно пока о таких прецедентах. И не зря. Ибо, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями. Оскорбленный папочка, прогульщик или лодырь напишет жалобу или анонимку! Не о себе лично, не о своем частном алкогольном случае, а принципиально, вообще о нарушении Правил. А правила мы обязательно нарушаем, и за это нам снимут голову, если кто пальцем укажет. А не нарушим Правил — дело завалится, опять голову снесут — это сказка про белого бычка.
В моем случае — еще сложнее. Мне с начальством ссориться нельзя: оно-то знает, где я нарушаю, помалкивает до времени, зачем ему губить меня понапрасну? А у него тоже начальство есть наверху. И ему с ними тоже ссориться нельзя. Закольцовано это дело, кругом шестнадцать. Равновесие установилось! Правила еще можно нарушить, а вот Равновесие нарушить нельзя, все завалится.
История моя, кстати, на этом не закончилась. На следующий день после добровольного ухода медсестры Медведевой вызывает меня мой начальник и категорически приказывает восстановить ее на работе. Он посмотрел многозначительно, сказал: «Оттуда требуют» и показал пальцем на потолок. У верующих когда-то было Небо. У нас — потолок. Иной раз берем с потолка: цифры, факты и разное. Хулиганку, аферистку, пьянчугу Медведеву нужно восстанавливать. А ведь не хочется, больных жалко, и авторитет мой страдает. Еду от шефа, комбинации в голове играю. И выхода, вроде бы, нет. А все же пробовать надо. Осторожно так, на ощупь. Вызываю Медведеву к себе. Она торжествует, сияет радостью и местью. Звоню папочке. А тот уже к разговору готов. И говорит мне то, что уже, видимо, и шефу сказать успел. Он говорит, что я несу персональную ответственность за моральный облик моих подчиненных — на то и руководитель. И для меня это будет очень просто и легко, если каждого оступившегося я с работы выброшу. Себе я жизнь облегчу, но будет это не по-нашему, не по государственному. Ибо куда же денется этот уволенный? Он же от того не исправится, а наоборот, утвердится в своих безобразиях, и ему будет еще хуже, и общество пострадает. Нет, я не должен идти таким легким путем. А должен перевоспитать безобразника, найти путь к его сердцу, взять под контроль, работать с ним упорно, настойчиво, а если ничего не получится — с меня же и спросят по всей строгости.
Четко аргументирует папочка. Нельзя не согласиться. Я действительно соглашаюсь и выражаю свое восхищение глубиной мысли и силой выражения. Он там добреет на другом конце провода, в голосе появляются отеческие нотки, снисхождение, добродушие. Но теперь уж мое восхищение ничем остановить нельзя. Я честно признаюсь ему, что когда брал трубку, у меня было совсем другое настроение, но вот теперь буквально за минуту он изменил мою установку, да что там установку — он мне открыл нечто такое, чего я не знал раньше. Все-таки старая школа, возраст и опыт. И теперь я понял, что его дочь действительно можно поставить на ноги, но, разумеется, с его помощью. Он будет наставником собственной дочери! Уж если он сумел буквально за минуты так сильно воздействовать на меня, то, конечно же, он сумеет воздействовать на собственную дочь. И завтра же я иду на самый Верх и там сообщаю, что мы вместе с ним берем шефство над его дочерью, и мы оба будем ответственны за ее дальнейшие поступки. И я буду регулярно, каждую неделю сообщать руководству о наших победах и поражениях. И, конечно же, я один с этим не справлюсь, у меня таланта и опыта не хватит. А вот его опыт и его талант нужно как раз использовать на благо общества и его дочери. И отказать он в этом не может, это будет не по-нашему, не по государственному. И далее в этом духе.
Тот замычал, запыхтел, почувствовал капкан. Он-то свое чадо знает. Если в детстве не воспитал, то где уж теперь, когда водку пьет, любовников меняет, аферы крутит. Поздно. Выросла уже. Сформировалась. Он там представил, что она выкинет завтра, и как я с этим пойду на Верх, и как он будет выглядеть каждую неделю. А я что: я из лучших побуждений, его же мысль продолжаю. И черт меня знает, то ли я его в капкан беру, то ли действительно дурачок отпетый. Задумался папочка. А дочь тем временем орет, да так, что в и трубку слышно: «Не буду я этого старого дурака слушать! Нашли умницу, да это же скотина настоящая, вы его просто не знаете».
— Как ты смеешь об отце говорить такое, о таком замечательном человеке!
И, отнесясь к нему, очень серьезно: «Да, работа у нас с вами предстоит немалая, слышите, как она выражается?». И к ней: «Твой отец замечательный человек, ты должна уважать его и слушать каждое его слово. Ты должна гордиться своим отцом».
— Говно он собачье! — орет она в исступлении и убегает из кабинета.
Я говорю в трубку: «В общем, решайте сами. Как вы решите, так я и сделаю». Последняя фраза очень важная. Скажу заведующему — дескать, сам папа решает, как он скажет, так и будет, по телефону договорились. Больше они не появлялись в поле моего зрения — ни дочь, ни папочка.
Свалить ответственность на тебя пытаются не только сверху, не только сбоку, но и снизу. Скажем, у нас в диспансере своего пищеблока нет. Наша повариха получает готовую пищу из диетической столовой, которая рядом. Привозит она герметически закрытые бидоны на ручной тележке с дутыми шинами по асфальту, через дорогу. Разделить порции — вот и вся ее работа. Ни готовить, ни варить, ни жарить. Женщина она хорошая, степенная, но от безделья, видимо, одичала. И на профсоюзном собрании вдруг кинулась, да с пафосом и заплачкой. Спутались у нее традиции в бедной голове. «Это сколько я могу с тележкой мучиться? Рученьки мои, — навзрыд, — рученьки мои бедные. Которые грамотные — ездиют на машинах, а мы как темные, значит — тележку возить. А право, кто право дал: кто, спрашиваю, право дал такое?!»
В заключение она потребовала, чтобы ее бидоны регулярно возила диспансерская легковая машина, которую вместе с шофером и следует закрепить за ней. И тогда выскочила известная наша активистка, медсестра одна, женщина пожилая, высохшая, как сестра очень слабая, но общественница большая. Уловила она чутким своим, еще довоенным ухом, что образованные пролетариат обижают. Остальное не поняла. Она так и сказала старым наивным штилем: «Я поддерживаю рабочий класс». И конкретно потребовала закрепить за поварихой легковую машину. Бывают же такие ситуации, настолько бредовые, что даже возразить нельзя. И санитарки одобрительно загудели. Они у нас деревенские и людей делят на грамотных (т. е. «шибко грамотных») и неграмотных. О себе санитарки говорят: «Я хочь и не ученая, но не глупа». Сами по себе они хорошие, уважительные. И труд у них адский, тяжелый, я им всегда навстречу иду. Иной раз и шею подставить нужно, правила для них же нарушить. Они это «знають и ценють». Но здесь, сейчас, в больную точку попало — своя, стало быть, неученая, чего-то требует. Да, видно, и по делу, раз ей грамотная женщина общественная помогает. А остальные? Остальные спят, собрание же. Мне нужно сразу найтись, и себя не уронить, и все на места расставить, и каждому его место указать. И я говорю, что санэпидстанция не позволит возить борщ в легковой машине, на которой мы больных возим и белье в стирку. Но уж коль вопрос такой стоит, я не возражаю приобрести для поварихи грузовой мотороллер. «А кто его будет водить?» — она кричит.