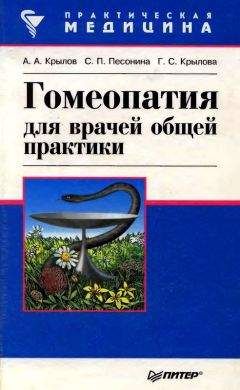Андрей Волос - Предатель
Встреча в кабинете главврача больницы им. Кащенко профессора Бориса Давыдовича Глянца имела характер предварительной экспертизы. Семен Семеныч, сволочь железобетонная, сидел в углу большого кабинета, на пациента, созданного своими собственными руками, не смотрел, но время от времени встревал в диалог, подзуживал врача: «Обратите внимание профессор, явная вязкость мышления, явная!»
Как будто Бронникова или вовсе здесь не было, или он являлся совершенно бесчувственным, не требующим человеческого обхождения предметом.
Он потом уже понял: участие Глянца требовалось, чтобы будущего пациента отправить в тюрьму; там он дождется судебного решения о принудительном лечении; после этого снова в «Кащенко», на основную экспертизу; а потом уж, как вышло в его случае, в Монастыревку на излечение.
Профессор Глянц при первой встрече показался человеком честным: стелил мягко (а вовсе не стелить и не мог, должно быть, все по той же причине присутствия гэбиста), толковал о переутомлении и астении (причем не в декларативной, не в диктаторской форме, а спрохвала, пространно и не страшно — дескать, то ли есть, голубчик, астения, то ли нет ее; надо, батенька вы мой, посмотреть), обещал, что дело обойдется непродолжительным наблюдением и чисто профилактическим врачебным участием — так, знаете ли, силы поддержать…
После чего Бронникова перекинули в Бутырки.
Товарищи по несчастью оказались еще те: один днем и ночью бредил, настойчиво ведя с самим собой бессвязные речи; второй молчал, но каждые десять минут (независимо от времени суток) разражался громовым хохотом; третий по всем повадкам выглядел нормальным, однако, когда его увели на допрос, хохотун, с трудом сдерживая пароксизмы смеха, поведал, что тот убил жену и так затейливо обошелся с трупом, что теперь, по трудам своим, ждал освидетельствования. Про себя тоже рассказал: ничего не делал, за что сидит — не знает; и громово расхохотался. В общем, в первую ночь (как ни мало она отличалась от дня: лампа неустанно жгла глаза) он почти не спал: боялся, кто-нибудь набросится…
Однако ночью случилось совсем другое: хохотун все похохатывал, а под утро вдруг захрипел и свалился с койки на пол.
Бронников вскочил.
— Что с вами? Слышите?
Куда там! Корчится, скулит…
Эпилепсия?.. Мокрый весь, зеленый… моргает… сердце?
Принялся колотить в стальную дверь; реальность норовила расслоиться, приходилось делать над собой усилие, чтобы признать: это с ним, это здесь, на Земле… в столице нашей Родины, в городе-герое Москве… это на самом деле!..
Отбив руки, повернулся спиной, принялся долбить ногами.
Минут через пятнадцать лязгнула задвижка глазка.
— Вот я кому-то постучу!
— Врача! Умирает!
Задвижка снова лязгнула — теперь закрываясь.
Сидел на полу, придерживая ему голову. Тот мало-помалу перестал хрипеть. Завозился, недовольно отстранил, сел, посмотрел мутно.
— Печет, зараза, — сказал он, то и дело икая. — Печет, сил нет. Вот тут.
Поводил ладонью у солнечного сплетения.
Минут через десять снова похохатывал (оказалось, прихватывает его каждую ночь: раз за разом Бронников стучал, добиваясь врача, раз за разом никто не являлся)…
Тоскливо ему там было. Тоскливо — и еще как-то особенно горестно.
Потому, должно быть, что позвонить, сволочи, так и не дали, и поэтому он ни на минуту не мог отделаться от мысли: как там Кира? Ведь по моргам рыскает, Москву на ноги подняла, с ума сходит!.. Единственная надежда была, что Юрец, какая ни сволочь, какой ни предатель, а все же обмолвился: мол, так и так, взяли его, не волнуйся, проявится. Много придумывалось вариантов, как бы он мог это сделать, чтобы даже и себя при этом не выдать… ах, если бы!..
А Леше каково? Это же надо такому случиться: папа пропал! В какие ворота?..
Беспрестанно думал о них, вспоминая, перебирая недавние мелочи, и вот эти-то мысли и оказывались такими горестными: ну просто до слез. Чуть отвлечешься — и вдруг вспышка в сознании: какая-нибудь фраза, шутка, какое-нибудь мелкое происшествие, о котором несколько дней назад и не вспомнил бы, а теперь видит, какое оно было важное, сколько в нем отразилось любви, понимания!.. И опять по старому кругу: ведь не дали позвонить! Сволочи, сволочи!.. А Леша! Он еще маленький, у него психика неустоявшаяся, детская!.. ему только осенью в школу!..
Надо сказать, Кира уже переводила прежнюю вольницу на школьные рельсы: уже и новыми предметами была означена важность грядущих перемен.
Комнату оснастили письменным столом и крепким стулом, а стол — черной головастой лампой на лебединой шее и двумя стаканами: один, как мыслилось Бронникову, для ручек, другой — для карандашей.
Сами карандаши — хорошие, кохиноровские — извлек из старых запасов, хранившихся со времен конструкторского прошлого. Стальных линеек и готовален тоже хоть завались, но до поры старшеклассничества им предстояло лежать невостребованными…
Смешно, конечно, однако мысль, что Лешка будет пользоваться его карандашами, а потом еще циркулями, рейсфедерами и линейками, приятно грела.
Преемственность.
Мама говорила, что он, ее сын, Герман Бронников, прислушиваясь, поворачивает голову точь-в-точь как отец, а посягательства на самостоятельность встречает таким же хмурым, как у отца, взглядом.
Бронникову тоже нравилось замечать, как в сыне проявляется нечто такое, что свойственно всему роду: и поворот головы, и взгляд… Кровь жизни текла, переливаясь из одного тела в другое, несла дальше и дальше что-то такое, что присуще только им, что выделяло их из бесконечного людского ряда; глупо кичиться этим отличием, потому что у всякого человека, у всякого иного рода есть нечто, что отличает от иных, — мочка уха ли, родимое пятно, жест, голос, интонация. Но все же приятно представлять, как Лешкины дети и внуки, а потом и правнуки, а потом и еще более дальние потомки будут так же поворачивать голову и так же характерно вскидывать взгляд, — как Бронников, как отец Бронникова, как его дед и прадед…
Узнавал свои повадки и в странной сосредоточенности, что накатывала на мальчика время от времени. Если б не помнил себя в том же возрасте, показалось бы странным. Например, сын любил расставить фигуры на доске (располагал сведениями только о начальном построении) и сидеть над ними, подперев голову и пристально глядя в пространство черно-белых клеток.
Бывало, наблюдал за ним пять минут… пятнадцать… В конце концов не выдерживал:
— Алексей! Скажи на милость, что ты делаешь? Все равно не знаешь, как слоны с турами ходят!
Сын вскидывал затуманенный взгляд — похоже, голос отца доносился из такой дали, что понимался не сразу.
— Я?
— Ну не я же.
— Думаю…
— О чем?
Пожмет плечами.
— Не знаю.
— Хочешь, ходы покажу?
— Не надо.
И весь разговор.
В лице сына столь же ясных знаков рода заметно не было (даже горбинка носа несколько изгладилась, должно быть намешалось много чего Кириного — серые глаза, русые волосы, лоб выпуклый, а не прямой, как у отца, верхняя губа пухлая). Но все равно так похожи, что, как говорится, и захочешь отказаться, да не сможешь: кровь от крови, плоть от плоти.
Некоторые области его собственного детства остались лакунами: мертвые пустоши среди живой луговины. С годами они размывались временем, съеживались, но все же не исчезли полностью: лежали в душе чем-то вроде остаточных солончаков, безжизненных пятен несбывшегося в окружении настоящей, случившейся, прожитой жизни. Кто знает, каким бы он вырос, каким стал, пройди в свое время и над этими плешами благодатный ливень?..
Теперь уж что говорить: дорого яичко ко Христову дню; а если в детстве война и голод, то ничего не попишешь; второго детства не бывает; коли вырос, то уже за себя того, прежнего, который был ребенком, не нарадуешься, машинками не наездишься, мячиками да ракетками, наверстывая упущенное, не настучишься.
Ему не хотелось, чтобы и Лешка когда-нибудь, став взрослым, обнаружил в себе подобные пустоты, клочья пустырей, не засеянных в свое время беззаботной радостью и не заросших жизнью. И — как самый близкий мальчишке, самый похожий на него человек — точно знал, как этого не допустить. Вдобавок был уверен, что чужая радость — зачерпнутая сердцем сына, глазами сына — будет такой же сладкой, как могла быть своя…
Точно знал, точно знал!.. заладил. Если точно знал, то как же допустил разор семьи?
Здесь, в тюрьме, этот вопрос звучал особенно мучительно. Казалось даже: и сама тюрьма ему за это!..
Временный разор, конечно… но временный разор — в некоторых отношениях еще глупее, чем если навсегда. Если понял, что невмоготу, и ушел — то почему вернулся? А если вернулся, перечеркнув тем самым свой уход, то зачем уходил? Не хватило мужества перетерпеть, уладить, усмирить разгуливающуюся стихию раздора?.. если так, то совсем уж неприятные следствия брезжат: или дурак, или трус.