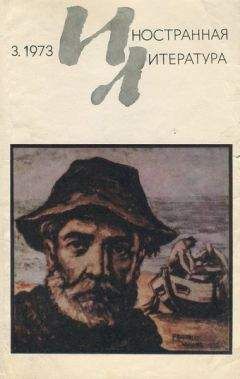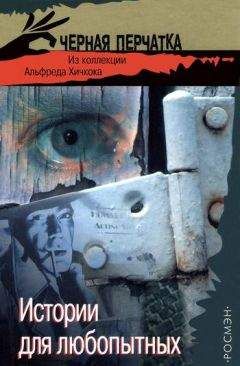Ридиан Брук - После войны
– Здесь нужно побольше света. Я хочу убрать вот это. Хайке? Растения.
Рэйчел указала на эркер, где буйные заросли комнатных растений мешали проникать в комнату солнечному свету, по которому она так соскучилась за долгие месяцы, проведенные в мрачном, придавленном низким потолком домишке. Если не считать теплиц и вездесущей аспидистры, Рэйчел никогда не видела столько зелени в доме. Может, немцы и считают заросли сорняков в горшках вершиной хорошего вкуса, она их терпеть не станет.
Хайке подошла к деревцу, восковой, почти искусственной на вид зеленой юкке. Нерешительно оглянулась на Рэйчел и дрожащим пальцем ткнула на дверь, желая убедиться, что именно этого хочет новая хозяйка.
– Да! Унесите его в другую комнату. Спасибо. – Скудость своего немецкого словарного запаса Рэйчел компенсировала четкой артикуляцией и ударением на «спасибо».
Служанка неуверенно улыбнулась. Вынося деревце из комнаты, Хайке не сдержалась, хихикнула и тут же зарделась от смущения. Смех был скорее нервный, чем презрительный, но Рэйчел рассердилась, решив, что ее распоряжение девушка восприняла как очередное доказательство чужеземной странности.
Первые заявления относительно демаркационных линий в своем новом доме Рэйчел сделала в грубоваторезкой, но четкой манере, которую наверняка одобрил бы премьер-министр Эттли. И пусть языковой барьер и отсутствие опыта обращения с прислугой подбавили в ее тон излишней резкости, важно было с самого начала утвердить себя и определить правила, по которым они станут жить под одной крышей. Но ни английская посуда армейского образца, ни перестановка мебели не изменили главного: она живет в чужом доме, спит на чужой кровати, пребывает в чужом пространстве. Скорее, наоборот, затеянные перемены – ссылка растений, драпировка обнаженной скульптуры в холле, замена стульев в столовой на более удобные плетеные – лишь лучше выявили характер дома. Переходя из комнаты в комнату, Рэйчел словно слышала снисходительно-насмешливый шепот стен: «Ты никогда не станешь здесь своей».
Этой же уверенностью прониклась, похоже, и прислуга. За внешней почтительностью, книксенами и поклонами скрывалось – Рэйчел в этом не сомневалась – неприятие ее как хозяйки. Для них она была самозванкой, выскочкой – особенно для вечно усталой, молчаливой Греты, служившей у Любертов дольше всех и явно преданной им. На Рэйчел она смотрела исподлобья, со скепсисом – вылитая придворная служанка, пережившая целую вереницу королев, ни одна из которых не могла соперничать с первой. Дом так и пребывал под чарами прежней госпожи, чье невидимое присутствие сильнее всего проявлялось в поведении прислуги. Неуверенность, с какой выполнялись распоряжения Рэйчел, буквально вопила: наша госпожа никогда бы так не сделала.
Обойдя в первый раз дом, Рэйчел поймала себя на том, что рисует для себя план сражения с ним. И дело не только в растениях. Светильники, посуда, утварь – все ей было не по душе. Рэйчел понимала, что очутилась в настоящем чертоге совершенства, но полюбить это совершенство она не сумеет. Рэйчел по достоинству оценила размеры и пропорции комнат, но минимализм обстановки скорее пугал, чем вдохновлял. Ей хотелось света и пространства, но и в комфорте и уюте она нуждалась не меньше. Если бы ее попросили описать дом одним словом, она выбрала бы «функциональный». Кресла, к примеру, были исключительно удобны, чтобы сидеть в них, но домашней уютности в них не было, а для кресла это важнейшее из свойств. То же самое можно было сказать в отношении шкафов, ламп, столов – строгие линии, ничего лишнего, легкомысленного, чудаковатого. Все в этом доме выглядело немного чересчур искусственным, холодно-изощренным. Слишком многое царапало взгляд скромной валлийки, выросшей среди темной викторианской мебели, каминов, пианино, незатейливых эстампов с замками и цветочных натюрмортов. Одна лишь гостиная с роялем «Безендорфер» черного дерева и оттоманкой отдаленно напоминала комнату, в которой ей, возможно, хотелось бы посидеть. Вот если убрать это странное кресло в углу, например, и заменить простенькой, пусть и напоминающей коробку, двухместной софой из главной спальни, – тогда, возможно, она и почувствует себя почти дома.
Рэйчел присмотрелась к хромированному креслу с регулируемой спинкой. Для чего оно предназначено?
Неужели чтобы просто сидеть? Вылитое кресло из врачебного кабинета, на котором пациентов подвергают болезненным процедурам. Может, это и не кресло вовсе, а некий артефакт. Или и то и другое. Может, именно в этом весь смысл. В любом случае это кресло не для нее.
– Вам бы стоило попробовать.
Рэйчел обернулась. Герр Люберт. В темно-синем рабочем комбинезоне автомеханика, в руке – связка ключей. Вид немного растрепанный, волосы взъерошены на макушке и примяты с одной стороны, как будто он лег спать с мокрой головой. Льюис всегда смазывает волосы гелем, зачесывает назад, и прическа у него неизменно безупречная. Небрежно-мальчишеский стиль придавал Люберту сходство то ли с дезертиром, то ли с художником-анархистом.
– Это Мис ван дер Роэ[18].
Шокированная его, мягко говоря, непринужденным видом, Рэйчел не сразу поняла, о чем это он.
– Кресло, – пояснил Люберт. – Его стоит опробовать. Считается одним из самых удобных кресел, когда-либо изобретенных.
– Не похоже. По-моему, как раз наоборот.
Люберт улыбнулся, немного слишком самоуверенно, немного слишком фамильярно.
– Да… Его придумал человек, решивший отказаться от «ненужного украшательства». Так, кажется, говорят?
Рэйчел никак не могла решить, как ей себя вести. Какое у нее должно быть лицо? А тон? И почему он в спецовке? И его английский… Люберт говорил столь свободно, столь естественно, что ей приходилось напоминать себе: перед ней немец, она не должна вступать с ним в неформальные отношения и вообще общаться нужно только по необходимости, для получения конкретной практической информации. Но он все говорил и говорил:
– Мне ван дер Роэ принадлежал к школе Баухауза. Они стремились к простоте. К функциональности. В этом была их философия.
– Разве, чтобы сделать кресло удобным, нужна философия? – спросила неожиданно для себя Рэйчел, хотя ей следовало короткой репликой положить конец этому никчемному разговору.
Люберт широко улыбнулся:
– В том-то и дело, что нужна! За каждым предметом искусства, за каждой бытовой вещью – философия!
Эта беседа может стать прецедентом! Демаркационные линии, спланированные ею с такой тщательностью, нарушены еще до того, как их прочертили!
Герр Люберт протянул связку ключей:
– Они должны быть у вас как у хозяйки дома. Здесь от всех комнат, всех помещений, на каждом ключе бирка.
Рэйчел взяла ключи.
– Хозяйка дома…
Она и не чувствовала себя таковой, и не верила, что может сыграть эту роль убедительно.
– Надеюсь, вы хорошо спали, фрау Морган, – добавил он.
Была ли в этой невинной банальности неуместная фамильярность или ее там не было, Рэйчел решила обозначить свою позицию:
– Герр Люберт, я хочу, чтобы между нами с самого начала все было ясно. Нынешнее положение, при котором нам приходится делить дом с вами, некомфортно для меня, и я полагаю, будет правильно, если наше общение ограничится вопросами первостепенной важности. Вежливость – одно, но изображать дружелюбие… думаю, это излишне. Нам нужно провести четкие демаркационные линии.
Люберт кивнул, соглашаясь, но ожидаемого эффекта речь, к изумлению Рэйчел, на него не произвела. На лице его гуляла все та же дружеская улыбка.
– Я постараюсь не быть слишком дружелюбным, фрау Морган.
С этими словами герр Люберт повернулся и вышел из комнаты.
– Guten Morgen, alle[19].
– Guten Morgen, герр комендант. Guten Morgen, герр оберет.
– Es ist… kalt[20]. – Льюис похлопал руками в перчатках.
Все согласились – да, действительно kalt.
С некоторых пор Льюис взял за правило здороваться с немцами у ворот комендатуры района Пиннеберг, разместившейся в здании библиотеки. Сегодня народу здесь собралось больше обычного. О приближении зимы свидетельствовал парок, вылетавший с дыханием; обычно тихая, смиренная толпа сегодня нетерпеливо бурлила: холода обострили потребность найти место в одном из лагерей для перемещенных лиц.
Льюис здоровался – кланялся женщинам, улыбался детям, козырял мужчинам. Дети хихикали, женщины приседали в книксене, мужнины тоже козыряли и взмахивали бумагами, которыми надеялись обеспечить свои семьи крышей и постелью. Льюис старался внушать людям уверенность в том, что все будет хорошо, что нормальная жизнь постепенно восстанавливается, хотя едкая «вонь голода», которая так не понравилась майору Бернэму и которую Льюис научился переносить, не морщась, напоминала, что, хотя война кончилась больше года назад, многим здесь не удается удовлетворить самые элементарные нужды.