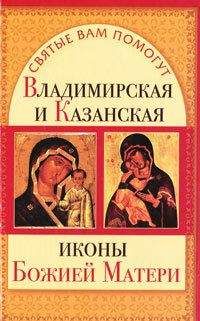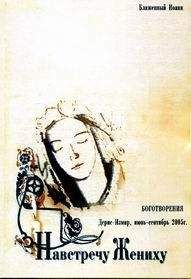Елена Крюкова - Серафим
– Пей, пей! Глотай! Матушка! Очнися!
Ну, скумекала я, энто мой поп миня водичкой отпоить хочет. Видать, коньки я отбросила… разум потеряла…
Воду послушно глотаю. А он уж на колени передо мной становицца, и культю мине – чистым лоскутом перевязыват. А из раны кровища живо ткань пропитала, так и льет, так и хлещет.
– Ништо, не бойсь, Иулиания! – грит, руку ветошью заматыват. Вот уж и узел исделал. – До свадьбы – заживет!
И тут кровь вся не в рану мне бросилась – в рожу мою.
– До свадьбы? – грю. – До свадьбы?!
Так я во дворе сидела, как пьяна, как больна. С перевязанной, замотанной рукой. Сижу и двинуцца не могу, а хозяйство стоит. И мыслишек в башке – ну вот никаких. Пыль, зола…
А губешки только повторяют: до свадьбы, до свадьбы, до-свадь-бы…
И вот появилась мыслишка перьвая: как энто я буду без пальца на руке-то…
И вторая: привыкну…
Солнце в глаза бьет, последнее, осеннее. Уж не палит – тихо, печально ласкат. Ах ты, Господи! Лето изошло. И палец я себе отрубила. Вон она, ступка деревянна, у ног моих стоит, с недорубленной капустой!
И тут шорох за плечом. Озираюся. Поп мой шествует ко мине!
А на руке у няво – штой-то тако ярко, красно! Как флаг в Первомай! Раньше, давно…
Я думала – тряпка кака красна, думала, руку нарошно красным обмотал, штобы, значитца, миня повеселить, што ли. Нет! Энто красно – шевелится! И киват! И чем-то щелкат! А посля – ка-ак крылья раскроет! Алыя… И затрепещет ими, замашет… и жаркий ветер мине в лицо ударит, в нос…
И крик такой противнай, скрипучай:
– Яш-ша хар-роший! Яш-ша хар-роший! Яш-ша хар-роший мальч-ч-ч-чик!
Господи Боженька сил! Попугай!
– Только энтого ищо не хватало, – шепчу.
Батюшка руку с попугаем к носу моему подносит. Попугай как взмахнет крыльями! Как взовьется! И – на плечо мине перелятел! И когти в миня впустил! Я глаз скосила, не дышу. Клюв у няво – клещи железны! Вот, думаю, чем ты, паскуда, щелкашь… А глаз блестит, глаз чернай, потом ободок желтай, потом округ синий, прям чернай жемчуг в оправе!
– Красавец ты, – тихо грю яму, а у самой из глаз слезки бисером сыплюцца.
Батюшка поднял руку и перекрестил миня и попугая.
– Я купил тибе, мать, штоб ты не плакала, – сурьезно так грит. – Не будешь рыдать-та? Глянь, веселай какой кавалер! В красном мундире! Енерал попугайскай!
Я ручонку свою протянула, перевязанну, и погладила Яшку по красной башке.
– Где добыл-та яво? – спрашиваю.
Яшка голову скосил, глазом зырк-зырк – и клювом своим страшенным, железным ну давай мне слезы с рожи так нежно… так осторожно… склевывать!
Ну, птица…
Слезы ищо пуще посыпались. Уж от радости, што ль?
– Дачники тут одне уезжали, – грит. – Насовсем съезжали. Я по дешевке у их укупил. Прям за три рубля. Глянь, какой парень справнай!
Я попугая с плеча взяла в руки, в ладони, как обойму яво ладоньми, крепко, и стала цаловать яму спинку алую, крылушки малиновы, головку в красной шапочке, глазик в ободках самоцветных, и клюв кривой, турецкай ятаган, даже поцаловала яму, животинке, птиченьке моей, нежной, бедной, красненькой.
А батюшка на нас обоих так глядел, быдто б я цаловала – во храме – икону.
ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК.
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Эта маленькая Девочка… Боже мой, совсем ведь маленькая… Господи, три годика всего было Ей…
Ярко-красное платьице бархатное, с кружевным воротничком, надели родители на Нее. Туфельки со шнуровочкой. Умыли чисто. Помазали святым горячим маслом. Дали на дорожку попить из кружки парного молочка. Пух куриный ли, кошачий – с рукавов, с подола отряхнули. Чистенькая какая! Ах, на пальчик – еще рубиновое, алое колечко нацепить… и на грудку – золотую цепочку, бабушкину цепочку, пророчицы Анны…
А где старуха Анна?.. А, она уже сидит подле храма, на паперти. Водку пьет из горла… за милостынькой сухую руку тянет…
Мама, мама, ну зачем ты, ну пойдем домой, домой, мама…
Господи, Господи, что ж я брежу-то… Господи, помоги, останови мя…
Доченька, Тебя почему Марией назвали?.. Разве не Анна Ты?.. Разве не в честь бабки Твоей назвали Тебя?.. Держись за мою руку, крепче держись… Ступени у храма тяжелые… высокие… долго, долго по ним вверх взбираться… Ты задохнешься…
– Божие селение во храм святый приводится Богородица Мариам, плотию трилетствующая, и Той свещесветят девы предтекуще… Божия Агница неблазненная, и голубица нескверная, Боговместимая скиния, славы освящение, в скинии святей обитати избра…
Ну давай, Доченька, давай. Я держу Тебя. Бархатное платьице Свое не испачкай!.. башмачком пыльным не наступи на подол… Давай… раз-два-взяли… еще раз взяли!.. Топ, топ… все вверх и вверх…
– Непорочная Агница и нескверный чертог, в дом Божий Богородица Мариам с веселием вводится преславно, Юже ангели Божии дориносят верно, и вси вернии блажат присно, и благодарственно поют Ей непрестанно велиим гласом: наша слава и спасение Ты еси, Всенепорочная!..
Все глаза в толпе глядят на нас. Как мы с Доченькой моей идем, идем по крутой лестнице вверх. Все вверх и вверх.
– Храм и Палата, и Небо одушевленное явльшися, Богоневесто Царева, в храм законный приводима днесь, Тому соблюдаема, Пречистая.
Дитя мое! Пресветлое Дитя мое! Я ввожу Тебя во храм. Видишь, я стал священником; и я ввожу Тебя во храм Святой, потому что сегодня праздник, и, видишь, везде флаги, расшитые золотом, выкинуты, и золотые хоругви всюду навешаны, и в воздухе летят цветным снегом серпантин и конфетти, и конфеты летят из горсти, и лампады и свечи все зажжены! И на шеях, на запястьях и пальцах у людей, у рабов и господ, ярко горят самоцветы заморские, из земли Офир, из Тира и Сидона, из Дамаска и Яффы! Не ругай меня, Доченька, что я раньше Тебя в храм не привел. Я ведь не был тогда еще священником. А теперь, видишь, родная, я – священник, и храм – мой дом, и давай поднимемся по крутой лестнице, давай в Дом наш войдем…
– Иоакиме и Анно веселитеся ныне, во храм приводяще Господень Чистую Бога Матерь Христа Всецаря будущую, от вас же рождшуюся, яко трилетствующую Юницу…
Доченька… не надо плакать…
«Папа, это я от ладости!..»
- Гляди-ка, Люська, у батюшки глаза как свечи, – слышу я шепот Дорочки Преловской, летящий ко мне воробьем от самого клироса.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
АЛТАРНАЯ СТЕНА. КОНХА
Полукруг. Полусфера.
Золотой мозаики нет у меня, чтобы выложить ею эту чистую белую стену.
Золотые пчелы, медная разменная монета смальты стеклянной… Мечта…
Я работал малярной кистью по сырой известке,
и терпко пахла яркая, соленая темпера.
Богоматерь стоит в полный рост.
У Нее грудь большая под складками.
Она – кормящая Мать.
Она поднимает обе руки над головою.
Поднимает над нами.
Поднимает над Мiром.
У Нее большие круглые глаза,
круглые как блюдца,
из которых пьют крестьяне чай по вечерам
с малиновым, жарким вареньем.
Нет: они от ужаса круглы,
Что видит Она внизу, на Земле.
…красно-желтые складки, тяжелые, падают, льются, кровавые.
Руки воздела высоко; глядишь со славою.
Ярко-голубая – небом средь туч грозовых – на груди – повязка светится.
Каждый живой с Тобой когда-нибудь встретится.
Когда?! А когда умирать будет, кончаться, Матушка!
Когда вся Земля в костлявых пальцах станет не больше катышка,
Не боле круглого, черного, жалкого помета козьего…
Ветр на ледяной фреске нагло играет Твоими волосьями.
Ты их, Мать, под белый снежный плат – не спрятала.
Ты, Мать, утку на двор загнала, что больно громко крякала!
Ты коров загнала в стойло, подоила в подойничек –
Синее небесное Молоко испробуй, покойничек…
Отпробуй, живущий, еще живой, Райского творожку да Эдемской сметаночки –
Грядет зима, и снаряжены уж лебеди-саночки,
Уж Мать вздернула руки вверх, о пощаде под черным дулом прося, о жалости –
Не стреляй, солдат!.. ты же мой сын!.. Мать тебя просит о самой малости…
О крохе жизни… о глотке Ея одном… об Ея корочке зажаренной…
Не стреляй!.. я готова быть униженной, ударенной…
Мать – от дитя Своего – все снесет… все вытерпит… лишь не убий Мя, чадо Мое…
В избе бревна сгнили давно… да и печь старая, чадная…
Да чугуны черные пусты… да забор беззубый скалится…
О, земля Моя, Мати! Великая Ты еси страдалица!
Стою. Плащ багряный тяжел. Закатом заречным подол густо вышит. Стопы мои
из-под подола торчат, грязны да смуглы. Комары толпами
Над головою висят. Сыро. Рядом река. Пахнет рыбой и медом, сухими травами.
Сыне Мой! Каждый, на земле, Сыне Мой! Каждая – Дочерь Моя! Плащаница Моя кровавая!
Гиматион Мой порфирный! Хитон Мой пурпурный! Рубаха моя небесная!
Руки Мои – ладонями – к Детям! Ступня Моя бестелесная!
Жизнь Моя последняя! Любовь Моя бесконечная!
Любовь Моя старая, седая, суровая, нищая, голодная, калечная…
Любовь Моя – юная! Золотая! Радость Моя звездная! Счастье великое!
Сыны Мои! Глядите на Меня из сожженной тьмы золотыми ликами!
А Я над вами ладони воздыму! Я все прощу вам – смерть и искушение!
Складками алого плаща обниму вас: во память, во утешение!
Я старая ваша Мать! Я Заступница ваша ветхая!
…Умру – обложите Меня в гробу еловыми ветками.
Я молодая навек! Я Царица ваша босая, белозубая, юная!
…Умру – воспойте хвалу Мне, осанну лесную еловыми, сосновыми струнами.
Положите Меня во гроб сосновый – да вот так же, как стояла Я с воздетыми
Руками… с непокрытым лбом… с сенными косами, солнцем согретыми…
Это тело Мое во гробе лежит. А Я – вот Я! Руки над Мiром раскинула!
Не стреляй, сынок Мой. Я для тебя – Твоего Бога родила. Сердце Свое для тебя из груди вынула.
И так под пулями, пчелами золотыми, стою, Великая Мать, неуязвимая, –
Красная земля, синяя вода, ледяная звезда, Купина Неопалимая.
ДОЧЬ УМИРАЕТ. АННА
Папичка, ты поближе ко мне, да?.. Папинька, ты… не блосай луку!.. нет!.. да… вот так…
Папка, ты что болмочешь там?.. Я не слышу. Ты – гломче!..
Анночка, я слышу, ты говолишь: Анночка!.. Я люблю, когда ты так… меня…
Анна – у-у-у-у!.. это колабль в холодном моле плывет…
А Анночка: это – чилик-чик-чик!.. – птичка на веточке поет…
А-а-а-а!.. Нет, нет… Не-е-ет…
Ты только не уходи…
Папичка, лодненький, ты… Клепче лучку мою сожми, клепче!.. чтобы я чувствовала… те-бя…
Звон!.. слышишь!.. Это я… пузылек… на пол… улонила…
В целкви звонят, ты сказал?.. Где?.. В какой целкви?.. Лазве лядом с нами есть целковь?.. Целковь же далеко, далеко-о-о-о-о… Челез целых тли улицы… Там если зазвонят – мы не услышим… никогда…
Папулечка!.. а!.. очень больно. Я не могу телпеть эту боль! Плижмись ко мне лицом… вот так… оно у тебя все моклое… ты мне щечку слезками измочил всю… Что ты все влемя шепчешь?.. Ты… молитву?.. А что такое – молитва?.. Ты – за меня – молишься?.. А что такое – молиться?..
Папа-а-а-а-а!..
Зачем ты кличишь: укол, еще укол! Не надо больше уколов! Никогда. Я больше не хочу их! Я хочу… тишины… Плосто чтобы было тихо… и никто меня больше… не укалывал…
…тише, тише… Я вижу – белая птичка на делеве, и поет-поет… Папуля, обними меня клепко-клепко… так, чтобы я вдохнула – и не выдохнула… а то мне очень стлашно… и больно…
СМЕРТЬ, ЖЕНИТЬБА, ИЗМЕНА И ОПЯТЬ СМЕРТЬ. СЕРАФИМ
Белые, сахарные слоники все идут по диванной желтой полке…
Потом бабушка переставила их на комод.
Потом бабушке повысили пенсию, и она сделала нам царский подарок — купила телевизор. Сама крестилась: фу, голубой этот экран — дьявольный!.. – и бормотала: ну, вы, молодые, девчонки-парнишки, не только ж читать из книжки, глядишь, и позырите чего, новости скажут или еще чего… фильму, концерту покажут…
Фильму… концерту…
Тогда по телевизору и оперы показывали, и спектакли. Московские. Наше, городское телевидение только начинало работу. Робкие новости; в маленьком, жалком, как дырка в нужнике, экранчике — бодряцкая рожа диктора, гладко выбритая. «Наши доярки выполнили-перевыполнили!.. Наши механизаторы выполнили досрочно!..»
Все планировалось; и все выполнялось досрочно.
Страна была сильна, мощна, бодра и сама перед собой выслуживалась.
Народ владел всем. Или это один народ владел другим народом?
Мать, придвинув табурет поближе, садилась и таращилась в экран — она все хуже видела, а очков не носила. Телевизор исторгал веселые вопли и хоровые крики. Сестры бесились, тянулись вверх, груди их наливались, зады ширели, они невестились, им надо было парней сильных — и рожать, – а замуж никто не брал, и кавалеров не было. Злились. К экзаменам готовились — книжки швыряли. То в меня, то об стенку. Орали. Злобно орали.
Я думал: сколько злобы может храниться в человеке? И где она прячется?
Бабушка гасла день ото дня. Ждали ее кончины.
Но не верили, что ее жизнь оборвется. Обманывали себя и ее. Весело приговаривали: ты, бабушка, у нас святая старушка! Ты – законсервировалась! Ты у нас долгожитель, до ста пятидесяти жить будешь!
Что врали? Зачем врали?
А – люди врут, и себе и другим, всегда врут. Чтобы легче жить было. Чтобы – не так сильно смерти бояться.
И каждый втайне думает: все умрут, а вот я-то, я-то – бессмертен.
После двух лет армии, – отслужил я на Северном Урале, в Ивделе, и приставили там меня к собакам, ухаживать за овчарками в питомнике близ северного лагеря, заполярной колонии строгого режима, – ах, собачки мои, собачки-красавицы!.. только лай ваш звонкий в ушах и остался, завяз… – начал я учиться в университете, на физическом факультете, с математикой и физикой у меня всегда было в школе хорошо, даже очень хорошо; я решал задачи и доказывал теоремы так легко, будто кто мне диктовал решения, веером разворачивал доказательства.
Учиться начал, и хорошо дело пошло, да не закончил.
Я женился.
Женился рано и поспешно, так не женятся. Так только отчаянные циркачи сдуру прыгают из-под купола в бездну без лонжи; пловцы бесшабашные в омут – вниз головенкой, в водоворот.
О, я сумасшедший был! Молоденький петушок! Девчонка понравилась, с ходу, с лету. Цап!
Или это она меня цапнула? Оцарапала коготками… Кошечка черненькая… Шестнадцать лет, только из школы выпрыгнула…
Через три месяца она выкрасила смоляные коски перекисью водорода – в мертвый белый цвет.
Через четыре – напилась первый раз, до бесчувствия.
Через полгода, беременная от меня, она изменила мне первый раз. С моим другом.
Через год она родила мне дочку.
Анной назвали.
Верочка – так мою жену звали – пить не прекратила после рождения дочки. И гулять тоже. Ох и гуляла она! Стены стонали! Мать моя, Матрена Ильинична, только морщилась, страдая. А Верочка и маманю в пьянство вворачивала. Так и не просыхали они, обе, бедные мои, старая и молодая. Анночка орала, как резаная, в колыбельке. Верочка раздевалась догола и перед пьяными автозаводскими подругами танцевала на столе, пинала чашки, рюмки, бутылки, они летели на пол и разбивались, и младенец плакал еще громче. Мать кричала мне, сквозь крики и визги пьяных девок: «И как ты все это ей позволяешь?!» Верочка обнимала мать за кривую, высохшую как корень шею, выталкивала неслушным языком: «Борь-рь-рь-ка… Пак-корми Аньку!..»
И подносила к впалому, уже старческому рту матери до краев налитый ртутным зельем граненый наш, деревенский стакан.
«Кормящий отец», – шептал я сам себе, Анночка лежала у меня на локте, я совал ей в губки грубую толстую резиновую соску, и уменьшалось, убывало в бутылочке метельно-белое молоко.
Молоко я сам брал в раздатке, рядом с домом. И кефир тоже. И выкармливал Анну, как мог, сам.
Потому что в доме творилось невообразимое. Я даже не знал, что со мной так в жизни будет.
Верочка была хорошенькая, как куколка. От алкоголя ее молоденькое кукольное личико краснело, краснели веки, грубо алели, как надраенные наждачкой, свежие круглые щеки. Огромные серые глаза сочились юным презрением к жизни и тайной, жестокой жадностью к ней. К ее удовольствиям. К ее наслаждениям.
Сейчас я могу сказать: да, к ее грехам. К ее сладким, винно-алым, грудастым, задастым грехам!
Плоть. Это не Плоть Христова. Не Его Кровь.
Это жадная плоть быстротечной жизни, и падкий на земную сладость человечек жадно, оголтело поглощает ее, стремится урвать, угрызть кусок, еще один, еще, пока не отняли.
Пока не затолкали в глотку – лопатой – земли сырой черный ломоть.
Верочка пила, глотала сладкое людское вино, в грех вводящее, горькую человечью водку, в преступление окунающую. Ела – сосала – жрала – грызла, хохоча, хитро подмигивая кому-то невидимому, сладкую, в подливке, в соусах, в перцах-приправах человечью пищу, которая из священной еды становилась просто – в ее дрожащих пальцах и намазанном яркой помадой рту – поганой жратвой, дымящейся хавкой. Она выпивала полбутылки водки, которую почему-то называла железным словом «коленвал», и заедала пирогом с мясом-с луком, купленным в кулинарии напротив, а мне казалось – она пьет дымящийся яд, она ест пирог с человечиной. Верочка, уже брюхатая, переспала с моим другом, с соседом моим, Валерой Гончаровым, а у Валеры Гончарова жена ведь была, Милка, так им вдвоем плевать было, что у нее – муж, у него – жена: я однажды шел по коридору, услышал из подсобки, где хранились инструменты слесарные, охи и ахи, все понял сразу, дверь рванул на себя – а они даже не закрылись, так с открытой дверью и обнимались. Я на всю жизнь запомнил Верочкин красный, высунутый из зубов наружу, как у овчарки из пасти, дымящийся, влажный язык. И все десять пальцев Гончарова, впившиеся в круглый нагой Верочкин юный задик.
Семнадцать лет. Ей было всего семнадцать лет.
А мне было двадцать два, и я учился на втором курсе университета. И, войдя из коридора в квартиру, лег, не разуваясь, на кровать, и плакал горько.
И горько, горько в кроватке своей, в колыбельке, в которой мать мою еще в деревне младенчиком качали, выращивали, плакала моя дочка, бедная Анна моя.
Компании, гулянки, девки новые, мне неизвестные, парни стриженые налысо и лохматые, как собаки, с татуировками на запястьях, на фалангах пальцев, в виде синих перстней… где она их подбирала? Подобное льнет к подобному. Плохое липнет к плохому. Зачем Верочка так жила? Такой она была рождена? Или такой сделали ее? Кто? Я не знал. Я ничего не знал. Я видел: она спит и с мальчиками, и с девочками, я видел, как нежно, ласково ее пьяные пальцы мнут, гладят грудь новой хмельной подружки под расстегнутой кофточкой, под грязным кружевом, – никогда так нежно и доверчиво она не ласкала меня.
Когда я с ней был, ночью, в постели, она пусто, бездумно и тоскливо смотрела в потолок. Отворачивала от меня лицо, пахнущее перегаром. И я читал по колючим письменам смоляных смеженных ресниц: «Кончай скорее, надоело».
Потом она засыпала и храпела, как мужик, оглушительно.
А я вставал к ребенку. Анна возилась, кряхтела, тонко всплакивала, будто взлаивал щеночек. Она и была моим щеночком – бедным, кудлатым, молочным, беспомощным, и его надо было мыть, подтирать за ним, кормить чем Бог пошлет, лишь бы кормить. Лишь бы – жил, выжил щеник мой. Когда еды совсем не было – Верочка спокойно могла пропить все семейные деньги, деньгами распоряжалась она, ведь она была мне еще жена и вроде как хозяйка, – я чистил картошку, лез в погреб за ней, заползал рукой в мешок, картошку я сам запасал на всю зиму, каждую осень, чистил и варил, а потом делал Анночке пюре на воде, и чуть подслащивал и подсаливал, и в это пюре крошил черствый ржаной хлеб, и так, перемешав нищую тюрю, давал ей с ложечки. И ела она, а я улыбался и плакал.
И сестры мои называли меня идиотом; и мать моя, работая на заводе, так и продолжала во дни церковных праздников просить милостыню у Карповской церкви, у ее белых стен и деревянных ворот.
И приходил к нам иногда Верочкин отец, лысый старик, без левой руки, и я глядел на его пустой рукав, конец рукава он заталкивал в карман, – ее отец, тесть мой, ничего не говорил, молчал, садился за стол, вынимал из кармана початую бутылку; и я пил вместе с ним жгучую водку, мы пили не из рюмок – из битых старых чашек, что наспех находил я в буфете. И я молчал, ничего не говорил. И вокруг нас молчали разбросанные в угаре попойки вещи, лифчики и туфли, тарелки и рюмки, соски и сигареты.
И, не выдержав, я бросил учебу, потому что после бессонных ночей, когда Верочку рвало фонтаном, а я держал ее поперек живота, как кота, а потом убирал за нею блевотину ее, как за больной собакой, за плохой овчаркой в моем питомнике, а потом снова тетешкал, укачивал на руках плачущую Анночку, ходил-ходил с ней по комнате, до одурения, а ребенок все плакал надсадно, а я сам превращался в сонного младенца, и я это я засыпал на руках у Анны, а не она у меня, – после таких ночей не мог я ни одной задачи решить, и декан факультета, вызвав меня к себе, долго, строго смотрел на меня, а потом сказал: «Жаль. Талантливый вы человек, Полянский. Жаль. Очень жаль».
И больше ничего не сказал.
Я сам написал заявление. Приказ об исключении состряпали быстро. На мое место было уже десять желающих.
Так я оказался на улице. Недоучка. С женой, и без жены. С матерью-нищенкой.
С ребеночком моим на руках.
Дочка! Радость моя! Солнце мое! Сквозь тучи…
Вот ты есть у меня; а что бы я делал, если бы тебя не было?
Продолжение рода, продолжение рода… Плодитесь… и размножайтесь…
К чему… зачем…
Так надо.
Закон.
Бабушка моя, Марфа, умерла, когда жена моя, Верочка, задумала уйти от меня, дочку мою, Анну, взявши на руки и собравши в дорогу, к новой жизни, маленький, еще военный, деда моего, Ильи Семеныча, вишневый чемодан.
Я видел, как она чемодан собирала, но не догадался, что к чему.
А вечером Верочка, удивительно трезвая, тихая, ко мне подходит и говорит мне, губы свои к уху моему вытянув трубочкой, тоже очень тихо:
– Боря, я от тебя ухожу. К другому. Благослови меня.