Меир Шалев - Фонтанелла
— Теперь повернись.
Ее руки и глаза прошлись по моему телу. Два пальца просунулись между кожей и резиновой полоской коротких штанишек, которую продела мама: протолкнула английскую булавку по длинной темной норе внутри ткани, вытащила, связала, сказала: «А сейчас оденься, Михаэль», — сунула палец и проверила, не слишком ли тесна резинка, потому что «это может помешать системе пищеварения в ее работе».
Два Аниных пальца ничего не проверяли, только просунулись и немного приспустили штанишки — и как будто широкая косая полоса открылась там, не тронутая огнем. Вся кожа вокруг была красноватой, кое-где уже облезла, а эта полоса оставалась белой и чистой.
— Вот он, твой не-шрам, — сказала она. — Здесь была моя рука.
Даже сегодня, если я поднимаю рубаху и слегка приспускаю пояс — когда никто не видит, я делаю это нередко, — я вижу его. И сразу же: тут была ее рука. Тут — ее ладонь. Пятьдесят лет прошло с тех пор, и тот, кто не знает об этом светлом пятне, уже не может его различить. Но я, который знает, — вижу и чувствую. Я уже не различаю, что я чувствую острее: границу моей боли («Дойдет только досюда и не двинется дальше», — сказала ее рука) или нежность ее губ, целующих меня в том самом месте, тогда и там, стоящего против нее на столе, целующих и спускающихся туда, где распухает, когда у тебя поднимается температура и отец говорит «давай пощупаем у тебя желёзки».
— Как тебя зовут? — спросила она.
Я испугался. Амума, рассказывая мне и Габриэлю историю о том, как человек в раю дал имена всем животным{15}, сказала, что так он получил господство над ними. «С помощью Имени», — засмеялась она, и я хорошо это запомнил — и потому, что это выражение удивило меня, и потому, что Амума тогда уже нечасто смеялась.
— Как тебя зовут? — повторила Аня свой вопрос.
Я молчал. Я знал, что она хочет сделать меня своим.
— Я знаю, как я буду тебя звать, — улыбнулась она. — Я буду тебя звать «Фонтанелла». Это имя только я и ты будем знать.
— Михаэль, — сказал я поспешно.
— Михаэль — красивое имя, и так будет называть тебя твоя мама. А я буду называть тебя «Фонтанелла».
Я ощутил улыбку в этом «е», прозвучавшем, как «э».
— Фонтанелла, — тихо произнес я про себя, прикоснувшись пальцем к своей макушке.
Странное это было слово, нелегкое для пятилетнего языка, требующее от него некоторой акробатики: коснуться зубов, прижаться, освободиться, погладить, произвести звонкий звук, оттолкнувшись от нёба. Но с тех пор, как я услышал его впервые — тогда, в вади, обожженный, мокрый и обнятый ею, — я уже много раз повторял его про себя: в тайнике своего сердца, как привык в присутствии людей, или одними губами, как привык в одиночестве. Во дворе и в поле, днем на улице и ночью в постели. И научился произносить его правильно — как она, с легкой улыбкой. Но уже тогда, несмотря на свой малый возраст, я почувствовал, что кроме общего свойства имен — упорядочивать мир и успокаивать его обитателей, — в этом имени присутствует также любовь.
Она расстегнула свою рубашку:
— Вот мои ожоги.
Ее руки снова обняли, прижимая меня к обнаженной груди — ожоги к ожогам.
— Я Аня. Запомни и не забывай.
И сняла меня со стола. Я стоял меж ее ног, и все мое тело болело от ожидания. Я знал, что сейчас она снова коснется меня там, притронется к моей фонтанелле, которая ждала и дрожала, открытая ей навстречу.
— Это знак, что Бог тебя любит, — сказала она и прикоснулась.
Уже тогда, в детстве, я знал, что, если хорошенько прислушаться к этой дрожи, можно узнать, что произойдет в будущем. Но до того дня я предсказывал только приближение хамсина, заморозки, приход дождя с гор. Я был полезен в основном лишь в вопросах жатвы и стирки да еще время от времени поражал окружающих тем, что находил пропавшие вещи. Однажды, когда Жених потерял своего «маленького шведа» и чуть не сошел с ума от отчаяния, отец послал меня на поиски. Сначала я поворачивался во все стороны, прислушиваясь к своей фонтанелле. Потом пошел по правильному направлению, ощущая на макушке «холодно-горячо», и в углу коровника, в том месте, где маленький шведский ключ выпал из кармана своего хозяина, сказал: «Здесь» и «Вот он», и отец обрадовался: «Я же вам говорил, что он может! Он находит всё на свете!»
<Не всё. Только то, что я хочу. Я не нашел Амуму, когда она спряталась в бараке, и не нашел Аню за все годы, прошедшие после их изгнания.>
Но сейчас я видел картинки любви. И Аня, как будто прочитав мои мысли, вдруг наклонилась и поцеловала меня в макушку, в самое «устье колодца», как это не раз делал отец.
<И усилились воды, и поднялись чрезвычайно{16}, и покрыли вершины гор любви.>
— Я Аня, — повторила она, снова выпрямилась и поднялась, застегивая пуговицы на своей рубашке. — Запомни и не забывай.
Многие годы прошли с тех пор. Время вложило в меня немного опыта, чуток понимания, несколько тонких слоев знания. И эта троица, с насмешливостью трех старых психологов, допытывается сейчас у меня:
— Михаэль, сколько же лет тебе было тогда? Пять? Шесть? Что ты знал тогда о любви?
А что я знаю о ней сейчас? А что знаете вы, высокоуважаемые специалисты по человеческой душе, — Знание, Опыт и Понимание? Ничего вы не знаете, кроме фактов: что я обложил осадой ее дом; что я измерял шагами его периметр; что я прижимал уши к его стенам, лежа под ними; что я сверлил их взглядами, пока они не растворились и дверь стала прозрачной. И всё это, господа почтенные, я проделал, совершенно-ничего-не-зная-о-любви.
* * *Отец сказал о докторе Джексоне, что он «не травит живое, а живет травою», и заявил, что ему подозрительны миссионеры любого толка. По его мнению, всякий миссионер стремится лишь к одному — основать себе общество друзей по несчастью.
Сам он ел в меру, курил в меру, пил чай и кофе в меру и работал тоже в меру. Он был умеренным во всем этом не потому, что так решил или кому-то мстил, и не потому, что имел на этот счет какую-то систему мнений и убеждений, а лишь в силу уверенности, что не следует слишком пристращаться, предаваться или воздерживаться и не нужно придерживаться никакой теории.
Держись за одно и не отнимай руки от другого{17}, — читал он мне — он, бывший разведчик Пальмаха, — и комментировал: «Не искать дорогу, а сосредоточиться на ходьбе».
А мама, которую, как и всех других вегетарианцев, постельные прегрешения беспокоили меньше застольных, лишь слегка докучала ему разговорами о всех его возлюбленных, зато непрерывно и нудно капала ему на мозги своими разговорами о пережевывании — кап — переваривании — кап — выделении — кап, — которыми капала и на мои детские извилины. И поскольку мы оба отказывались ее слушать и затыкали уши не только в переносном, но и в буквальном смысле этого слова, она видела в нас не только грешников, но и глупцов и порой, в минуту жалости, называла нас слепыми, которым нужен поводырь.
В шесть лет, когда я уже начал понимать, что у меня есть способность иногда предвидеть будущее, я всякий раз, когда мне сигнализировала об этом моя фонтанелла, предостерегал отца, что мать собирается выйти на розыски. Но в одну из весенних суббот, которая в нашей семейной хронике именуется «черной», я ошибся. В тот день я проснулся поздно, и мама, которая даже по субботам вставала на рассвете, чтобы не пропустить самоистязание «холодного душа поутру», уже вовсю занималась чисткой. Запах спрятанных отцовских сосисок достиг ее носа. Она открывала шкафы, вытаскивала ящики и выбрасывала наружу всё, что в них было, при этом ни на минуту не прекращая лекцию о «травоедах и жвачных» с цитатами из врачей-натуропатов.
— Открой рот! — закричала она, увидев меня. — Я требую от тебя немедленно открыть рот!
Я не спорил. Не напрасно у нас о каждом настойчивом требовании говорят: «Ханеле требует». Я задрал голову и разинул рот. Я был уверен, что сейчас она начнет искать у меня в зубах и найдет преступную крошку шницеля. Но нет — на этот раз она всего лишь хотела продемонстрировать отцу «строение клыков человека», самой природой не приспособленных для пожирания мяса. После этого она оттолкнула меня и перешла к «этому вашему порочному обычаю беседовать, — так она сказала: беседовать, — во время еды». Ее лицо побагровело, ее развитые волчьи клыки обнажились. Отец сказал ей, что она выглядит немного не так, как должны выглядеть травоеды и жвачные, и предупредил ее, что «раздражение, Хана, — это самый опасный яд, он вредит здоровью даже больше, чем пожирание мяса».
Только этого ей не хватало. Тотчас вспыхнула грандиозная ссора, в воздухе стали мелькать прозвища, упреки и сосиски. Швырялись обиды, тарелки и воспоминания. Благодетельные комочки слюны разбрызгивались в разные стороны вместо того, чтобы помогать нам разлагать крахмалы. Выделялись резкие желудочные соки. И в заключение мама закрылась в спальне с теплой, успокаивающей чашкой настоя ромашки — а может быть, крапивы с медом, — наполненной, как принято у нас, до самых краев.
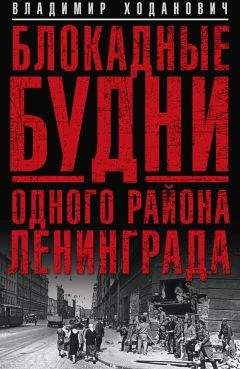

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
