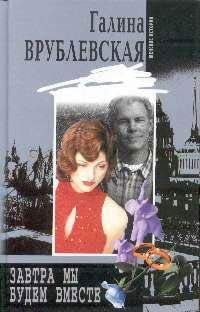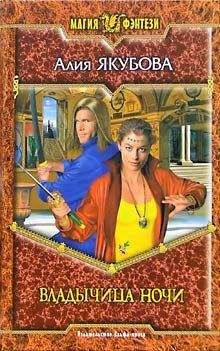Юрий Герман - Я отвечаю за все
— Здравствуйте, геноссе Гебейзен, — сказал Богословский.
— Бонжур, месье, — ответил Гебейзен. Он учился и в Париже, помногу работал там и часто неожиданно переходил на французский, которого никто тут не понимал.
— Но, но, — предупредил Богословский. — Опять вас поведет…
В распахнутую настежь дверь он поглядел, найдется ли ему труп, но ничего не увидел.
— Ну, не забавно ли, — заговорил Гебейзен по-немецки, — молодежь ко мне не ходит. И очень редко ходила. Чем меньше опыта, тем меньше они боятся неожиданностей во время операции. Недаром геттингенский Иоганн Франк жаловался: «Когда я был молод, больные боялись меня, а теперь, поседев, я сам боюсь больных»… Грустно стареть, Николай Евгеньевич?
— А разве я так заметно старею?
— Петцольд утверждал, что самые опасные болезни — те, при которых заболевший не испытывает страданий. В этом смысле он считал самой страшной старость, если не считать глупости…
— Идите к черту! — сказал Богословский. — Всегда вы что-то вычитаете, от чего тошно станет…
Пришел Устименко, и Гебейзен зажег им бестеневую лампу — это уже успел обернуться мрамор, полученный Богословским.
— Красиво? — похвалился профессор.
— Я думал, вы мне спасибо скажете.
И, окликнув задремавшего служителя, Богословский взялся за скальпель. Устименко, как всегда, стоял за его спиной.
— Надо бы сделать классику «Бильрот II», — сказал Николай Евгеньевич, — но как я пойду, если у него перед брюхом мина взорвалась? И заштопал его какой-то олух царя небесного. Посмотрите картинку!
Втроем они посмотрели снимок, подивились шуточкам войны и порассуждали, что же все-таки делать? Примерившись на трупе и поупражнявшись в том, что именно он решил делать завтра, Богословский бережно, как всегда, закрыл тело простыней и пошел мыть руки.
— Геноссе Устименко, — начал было Гебейзен и смолк, прислушиваясь.
Богословский громко разговаривал со служителем.
— Геноссе Устименко, — повторил старик. Он заговорил по-английски и по-русски, по-английски превосходно, а по-русски очень плохо. Но Владимир Афанасьевич понял сразу. Речь шла о Варваре. Только она могла устроить этот кутеж в номере гостиницы. Только она могла так безнадежно наврать насчет «кавьяра, который едят ложками». И что «дело пахнет керосином» — это ее слова. И что зовут ее Нонна Варваровна — ох, Варька, Варька!
— Почему же вы мне раньше не рассказали? — поднял глаза Устименко. — Это ведь давно все было?
«Ловчий сокол», «воззривший сокол», беркут, увидевший волка в степи, — так она объясняла ему, на кого он похож. Это невозможно было перевести на английский, но Владимир Афанасьевич догадался, что Варвара хотела сказать.
— Это ваш большой друг, — произнес Пауль Герхардович. — Она очень страдает. Но дома я не мог об этом говорить. Наверное, это не надо говорить никому, не правда ли?
У него было грустное лицо, у «воззрившего сокола». И так как Устименко молчал, Гебейзен переменил тему.
— Все сегодня невеселые, — сказал он. — И геноссе Богословский. Почему?
— Как всегда накануне трудного дня, — объяснил Устименко, думая о Варваре. — Геноссе Богословский твердо решил не сострадать. Такова задача. Но это ему дорого обходится, как все умозрительное.
— Так надо, чтобы он сострадал, — посоветовал Гебейзен. — Это же легче…
И, оставив Устименку в покое, заговорил с Богословским на морозце, возле покойницкой. Владимир Афанасьевич стоял, опираясь на палку, не слушал, о чем болтают старики. Стоял, высчитывал, прикидывал, когда «имел место» разговор Гебейзена с Варварой. И высчитал — перед тем, как они увиделись возле машины Штуба, вот как давно.
На прощание Гебейзен рассказал о своем учителе:
— Он уверял, что прекрасно ладит с мертвецами, потому что они скромные ребята. Смерть делает их куда лучше и покладистее…
— Ну вас, — сказал Богословский, — и куда ваши мозги повернуты?
— А что, разве они капризничают? — спросил Гебейзен. — Нет, с этими спокойнее, чем тогда, когда они были живыми…
Но когда они вдвоем шли к хирургическому корпусу, Богословский пожаловался:
— Не нравится мне эта его манера острить насчет смерти…
— А это он вас отвлекал от вашего нового направления, — сказал Устименко. — Вы, решив взять себя в руки и спокойно относиться к оперируемым, совсем извелись. И все это видят. И никакого спокойствия не получается. У вас же многолетняя привычка работать по-своему, а не иначе. И вы себя не предохраняете новой манерой, а только мучаете. Да и вообще, откуда вы взяли, Николай Евгеньевич, что хирург может относиться к своему больному, как к иксу или игреку?
— Размышлял, — вяло ответил Богословский. — Гебейзен кое-что рассказывал. Он-то повидал…
— Гебейзен, между прочим, рассказывал при мне. Знаменитый Медисон вообще не знает своих больных. Он их никогда до операции не видел и никогда после операции не увидит. У него целая армия выхаживателей…
— А почему вы раздражаетесь?
— Потому что есть вещи, которые мне претят. Медисон гений, но хищник. Он делает свои миллионы. А мы иногда не понимаем, что нам годится, а что нам противопоказано. Через тридцать лет они будут лечить, никогда не видя больного, только через посредство сводки анализов, кардиограмм, рентгеноснимков и так далее. Лечить, не заглянув в глаза больному…
— Вы не сентиментальничаете, Володечка?
— Насчет глаз? — спросил Устименко. Подумал и ответил: — Нет. Врач должен разговаривать с больным, чего бы это ему ни стоило.
— Это потому, что вы собрались бросить практическую хирургию? — жестко осведомился Богословский.
— Нет. Потому что у нас она должна быть совершенно иной, чем там…
И он кивнул в ту сторону, где, как ему казалось, навечно уснул в своем фамильном склепе символ «той жизни», убитый «той медициной» милый мальчик, похожий на исстрадавшуюся девочку, сэр Лайонел Ричард Чарлз Гэй, пятый граф Невилл. Что бы было с ним, с врачом Устименкой, если бы он тогда не открыл для себя эту душу, охраняя собственные нервы?
— Картотека — хорошее дело, — жестко сказал Устименко, — но больным ее мало. Больному нужно выговориться…
— Поучите меня, дурака, поучите, — попросил Богословский. — Я, бедолага, не знаю, что нужно больным…
Они сели пить чай в кабинете главного врача, тут им было удобнее всего спорить и даже ругаться.
— Я вас не учу, — рассердился Устименко, — я вам возражаю. Мы уже спорили с вами на эту тему. Конечно, ни вы, ни я не были ни в Америке, ни на Западе. Но и вы, и я читали путевые заметки такого великого хирурга, как Юдин. Он описывает не больницы, а фабрики, концерны хирургии. Он там был в гостях, и он сдержан, но мы-то должны сделать свои выводы.

![Борис Хантаев - Праздник живота [СИ]](/uploads/posts/books/87303/87303.jpg)